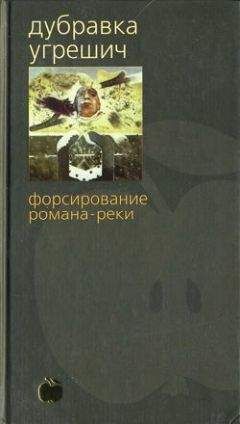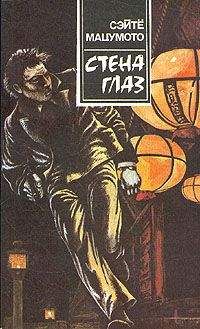Дубравка Угрешич - Читать не надо!
Почему во всем мире меня именуют хорватской писательницей? Потому что просто не знают, как еще меня называть. Каждый писатель чей-то, каждый принадлежит к какой-нибудь нации, каждый пишет на каком-нибудь языке, так чего тут голову ломать из-за статистически незначительного случая перемены национальной принадлежности?
За каждым писателем стоит его родина. Приглашения на литературные сборища с именами участников напоминают перечень участников Олимпийских игр: всегда присутствует в скобках название страны. Лишь однажды я увидела в скобках надпись транснациональный после имени одного писателя — и в тот же миг ему позавидовала. На литературных сборищах я чувствую себя будто на конкурсе песни Евровидения; после моего выступления или беседы мне каждый раз чудится, что вот-вот я услышу гонг, и чей-то голос провозгласит: «Хорватия, пять баллов!» Мечтаю, как в один прекрасный день я сорву ярлыки, которые другие усердно пришпилили ко мне, и выступлю просто под своим именем. Это простое имя и есть величайшее литературное признание, какое только может получить писатель. А для всех прочих это — «Кипр, пять баллов»; «Польша, два балла»; «Бельгия, десять баллов»…
Преимущества эмиграции
Быть самой по себе, нищей, без средств, всеми презренной, всем чуждой, существовать без крыши над головой и шагать вперед в величественном одиночестве к завоеванию мира. (Изабелл Эберхардт)
Эмиграция — это добровольная работа по демонтажу прописных ценностей человеческой жизни. Эмиграция, угодно вам это или нет, — испытание основополагающих представлений, вокруг которых вращается человеческая жизнь: представлений о доме, о родине, о семье, о дружбе, о профессии, о личной биографии. Завершив долгий и изнурительный путь борьбы с бюрократией страны, в которую попал, приобретя наконец-то необходимые документы, эмигрант забывает тайные познания, которые приобрел на этом пути. Во имя жизни надо двигаться вперед.
Домохозяйка Нермина всю жизнь прожила в Сараево. Воспитала двоих дочерей, потеряла мужа, и тут грянула война. Одна из дочерей бежала в Лондон, другая со своей собственной дочкой — в Америку. Обе прилично устроились. Хана в Лондоне поступила в аспирантуру, написала докторскую диссертацию. Получив грин-карту в рамках содействия боснийским беженцам, Сенада определила дочь в университет, а сама нашла работу в аэропорту. Нермина покидать Сараево отказалась: «Ни за что с места не сдвинусь, буду жить или умру, если случится, там, где родилась». Когда же наконец, после Дейтонского соглашения стрельба прекратилась, Нермина припечатала, что такой мир еще хуже, чем война, и отправилась к своей дочери в Лос-Анджелес.
Впервые в жизни в шестьдесят пять лет Нермина выехала за пределы Югославии, страны, где родилась, и с паспортом нового государства — Боснии — приземлилась на Американском континенте. Не успела она там высадиться, как ее дочь заявила, что жизнь в Америке ей чужда (она именно так и выразилась: «чужда») и что она намерена возвратиться в Сараево.
Нермина осталась. Одна правительственная организация подыскала ей маленькую квартирку, предоставила небольшую социальную помощь. Ее записали на курсы английского языка для иностранцев. В этой группе, среди мексиканского, корейского, боснийского, «всякого разного» люда, Нермина и начала свою новую жизнь. И оказалась замечательной ученицей. Ей выдали некий диплом. Она поместила его в рамку. Занятий не оставила; напротив, она успешно продвигается вперед. В школе ее все любят. Всякий раз, приходя туда, она приносит свои домашние боснийские пирожки и угощает мексиканцев, корейцев и боснийцев. Иногда звонит дочери в Лондон и не без гордости говорит по-английски:
— Это мама Нермина звонит. Ну, как ты поживаешь?
Встревожившись, Хана, от которой я и узнала эту историю, отправилась к матери, попыталась уговорить ее вернуться в Сараево. Нермина отказалась.
— Но что ты будешь делать в незнакомой стране? Совсем одна, без родных!
— Не могу я вернуться, — отрезала Нермина. — Я в школу хожу. И потом, как я оставлю моих мексиканцев, корейцев и боснийцев без своих пирожков?..
У себя в квартире, миниатюрной копии сараевской, Нермина втолковывала дочери:
— Понимаешь, Хана, отсюда мне видно, что я всю жизнь только и знала, что холила и обихаживала нашу квартирку в Сараево. Так и здесь я то же самое делаю. Рико привез мне подержанный телевизор, Ким — вот этот холодильник, а Севдо притащил вот этот диван…
В считанные мгновения (поскольку особого времени на размышления не было) Нермина впервые в жизни обрела внутреннюю свободу и теперь живет в гармонии сама с собой.
Эту историю я рассказываю всякий раз, когда кто-то из моих соотечественников жалуется, как ему трудно (а жалуются они постоянно, что поделать, так уж люди устроены!). И себе я эту историю тоже напоминаю, как только чувствую позыв поплакаться на свою тяжелую участь.
Физика и метафизика эмиграции
Ведь в этом вопросе есть и иная истина: эмиграция — состояние метафизическое. (Иосиф Бродский)
Во время короткой поездки в Сан-Антонио я посетила знаменитый музей Аламо. Гуляя по сувенирному магазинчику музея, я наткнулась на книжку, название которой мне приглянулось. Книжка славила некую «Спасительницу Аламо», излагая «историю ее жизни посредством oдeжды, которую она носила».
Я могла бы описать свою кочевую жизнь, рассказывая о вещах, которые покупаю снова и снова (кофеварки, домашняя утварь, консервные ножи, фены с переключателями со 120 на 220 вольт, проигрыватели дисков, вилки и адаптеры для компьютера, домашние туфли), потому что вечно их где-то оставляю. Моя история может быть изложена как череда чемоданов и сумок, которые я с собой таскаю, которые тащатся вслед за мной, которые я бросаю, а потом покупаю новые. Моя эмигрантская жизнь — это бесконечные визы и штемпели в паспорте, счета, кучи бумажек, подтверждающих мое пребывание там-то и там-то, вещи, купленные там-то и там-то; правда, со временем эти так называемые свидетельства постепенно стираются из памяти.
В общем, если посредством какого-то чуда вся эта куча вещей вдруг вмиг возникнет передо мной, я, очевидно, приду в ужас от того, какой кошмарной жизнью живу. Это постоянное возведение и низвержение очередного дома, укладывание и распаковка вещей, с каждым разом все более утомительное повторение этого ритуала, напоминающего компьютерную игру, создает некую специфическую связь между эмигрантом и его биографией. У эмигранта возникают весьма специфические представления о пространстве и времени.
Выходя из метро в Берлине, я заметила пожилую боснийку в мешковатых брюках. Стоя на перекрестке, она растерянно озиралась по сторонам, бормоча: «Господи, где это я?» Эмигрант чаще задастся подобным вопросом, чем обычные люди. В этом его преимущество и одновременно источник глубокого внутреннего страха.
Эмиграция как судьба
Для писателя-эмигранта этот путь во многом схож с дорогой домой — потому что он приближается к системе идеалов, вечно его вдохновлявших. (Иосиф Бродский)
Ну и, конечно, у эмигранта полно времени на обзор собственной биографии. Эмигрант копается в своем прошлом, ища объяснений того, что происходит с ним в настоящем. И задает себе вопрос: что было раньше — курица или яйцо? Не началась ли его эмиграция задолго до того, как он уехал, и не является ли нынешнее состояние, именуемое эмиграцией, воплощением некоей давней мечты?
Эмиграция — это детская сказка о шапке-невидимке. В один прекрасный день мысль, возбуждавшая детское воображение, воплотилась в реальности эмиграции. Ибо эмиграция — это добровольное путешествие в безвестность, катапультирование на обочину жизни, в вуайеризм, в невидимость.
Когда-то в далеком детстве я грезила шапкой- невидимкой, а позже была очарована фильмом Антониони «Пассажир», историей для взрослых, но примерно того же свойства. Главный герой (Джек Николсон), украв в отеле паспорт умершего и положив его себе в карман, превращается в другого человека и вскоре оказывается пойманным в ловушку судьбы того, другого. Герой Антониони, как и герой экзистенциального жанра, именуемого эмиграцией, не способен повернуть вспять, не способен сорвать с головы шапку, чтобы все сделалось как прежде.
И вот с этой-то точки невозможности возврата начинаются некие интимные отношения эмигранта с его собственной «судьбой».
Финальная встреча писателя с эмигрантом в самом себе
Лисица — бог коварства и обмана. Если дух лисицы входит в человека, его потомство постигает проклятие. Лисица — бог писательства. (Борис Пильняк. «Год японского офицера»)