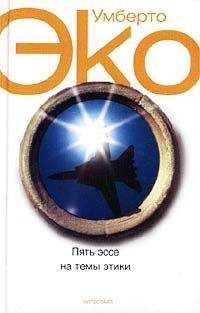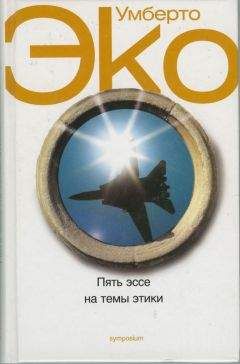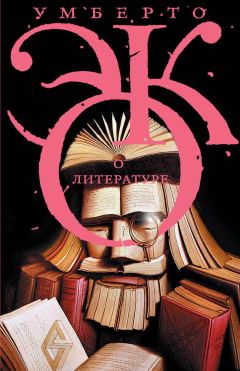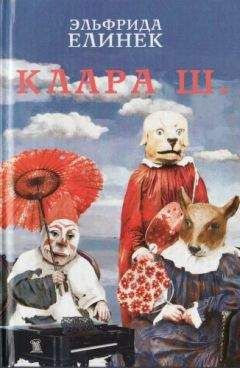Максим Осипов - Крик домашней птицы (сборник)
Сцена тринадцатая
Ножницы
Ксения возвращается в пельменную. Ей открывает Пахомова.
ПАХОМОВА. С наступившим вас, Ксения Николаевна!
Ксения смотрит непонимающим взглядом, не отвечает. Пахомова удаляется. Ксения оглядывает помещение, подбирает забытую Рухшоной книгу, улыбается, читает из нее, не понимая.
КСЕНИЯ. «Он милостив ко всем на свете и только к верующим в День Суда». (С восторгом.) День суда… Как хорошо! Ах…
Свой последний монолог она произносит с нарастающей громкостью, до крика.
Никто тебя никуда не выдворит, девочка моя, доченька. Ты будешь со мною. (Прижимает книгу к груди.) Адвокатов найдем… стоящих. Все образуется — в области тоже люди. От уродов здешних избавимся… до последнего, в руки свои возьмем весь город. Эти люди… теперь я знаю: эти люди — они мне вверены. (С этого места говорит уже очень громко.) Я знаю — Кем вверены и зачем. Заживем по закону, по правде! Ох, заживем! Работать будем! Все вместе! С детства, с шестнадцати, нет! — с тринадцати лет! Ликвидируем старшие классы — давно пора! Интеллигентов, попов, слабаков всяких, хлюпиков — к чертовой матери! И заживем! Пить? Пить будем только по праздникам! По большим, настоящим, великим праздникам!
Ксения исполняет какой-то невиданный танец. На месте дома Учителя вырастают высокие красные минареты, похожие на башенки новой русской архитектуры. Соло трубы становится провозвестником нового знания Ксении: неглубокого, но всеохватного. Внезапно все стихает. Осторожно ступая, входит Пахомова.
ПАХОМОВА. Ксения Николаевна, все хорошо?
Ксения отвечает спокойно и тепло, как никогда прежде.
КСЕНИЯ. Да… хорошо.
ПАХОМОВА. А то: пришли — и тихо…
КСЕНИЯ. Все хорошо. Просто… тяжелый день.
Сцена четырнадцатая
Бумага
Учитель бродит по вечернему городу, останавливается возле парикмахерской, видит через стекло свою бывшую ученицу.
ПАРИКМАХЕРША. Сергей Сергеич! Сергей Сергеевич! Заходите!
УЧИТЕЛЬ (трогая волосы, смущенно). А что? Я давно не стригся. (Заходит.)
РАДИО. После рекламной паузы мы будем передавать музыку русских и зарубежных композиторов. Для красивых и сильных волос…
Парикмахерша выключает радио, бережно усаживает Учителя, моет ему голову.
ПАРИКМАХЕРША. А ведь вы меня не узнаете, Сергей Сергеевич!
УЧИТЕЛЬ. Ну как же, ну что вы! Ты что! (По-видимому, все-таки не узнает.)
ПАРИКМАХЕРША. Помните, вы мне сочинение писали, с Верочкой. Бедная Верочка… (Ей слишком весело, и она слишком рада видеть Учителя, чтобы грустить.) Академию я бросила — двое детей! Вот! (Хочет достать фотографии, но останавливается.) Вы ведь не любите фотографии!
Учитель жестом показывает, что на детей Парикмахерши его привычки не распространяются.
Да, да, фотографии не любите и анекдоты.
УЧИТЕЛЬ. Анекдоты, правда, не люблю.
ПАРИКМАХЕРША. Еще — сны…
УЧИТЕЛЬ. Девочкам только позволь сны рассказывать… Как ты все помнишь!
ПАРИКМАХЕРША. А вы забыли, забыли!
Парикмахерше очень хочется, чтобы Учитель увидел ее детей, и она протягивает ему снимки.
УЧИТЕЛЬ. А… (Ему хочется спросить про мужа, но он не решается.)
ПАРИКМАХЕРША. А Димку Чубкина вы не помните? Это ж мой одноклассник, теперь я Чубкина! Неужели вы всё-всё забыли?
Продолжая радостно улыбаться, Парикмахерша работает ножницами. Она любуется головой Учителя, тот — ее детьми.
УЧИТЕЛЬ. Скажи, а ты хорошо помнишь Верочку?
ПАРИКМАХЕРША. Сергей Сергеевич, ну как же я могла ее забыть? Мы ведь завидовали Верочке, ревновали к ней, к вам… (запутывается) вас…
УЧИТЕЛЬ (улыбается). Ее ко мне? Меня к ней?
ПАРИКМАХЕРША. Все равно, мы потом перестали. В ней было столько много всего! Мы… ну, не знаю… Простите, что-то я разболталась. Она вся такая… такая была… не отсюда. Вот просто счастье, что была Верочка. Вот. Всё. Простите.
УЧИТЕЛЬ. Да, да… точно…
ПАРИКМАХЕРША (закончив стричь). Мы в годовщину, девочки — кто в городе остался, — ходили к ней. Ой, там такой некрасивый памятник…
УЧИТЕЛЬ (кивает). Да, неудачный.
ПАРИКМАХЕРША. Но мы, знаете, к реке спустились — и, как когда-то, стали читать…
УЧИТЕЛЬ. Да? Что читали?
ПАРИКМАХЕРША. Всякое разное… (Наспех, не декламируя.) «Когда ты болен и забит…» Вот это.
УЧИТЕЛЬ. «Когда ты загнан и забит / Людьми, заботой, иль тоскою; / Когда под гробовой доскою / Всё, что тебя пленяло, спит…»
ПАРИКМАХЕРША (уже попадая в интонацию). «Когда по городской пустыне, / Отчаявшийся и больной, / Ты возвращаешься домой…» (Задумывается, пробует вспомнить.) «Ты возвращаешься домой, / И серебрит…»
УЧИТЕЛЬ. «И тяжелит…»
ПАРИКМАХЕРША. «…ресницы иней, / Тогда — остановись на миг / Послушать тишину ночную, / Постигнешь слухом жизнь иную, / Которой днем ты не постиг». (Опять забывает.) «Найдешь в душе опустошенной / Вновь образ матери склоненный… Узоры на стекле фонарном, / Мороз, оледенивший кровь, / Твоя холодная любовь…» Сергей Сергеевич, вы говорили, так рифмовать нельзя: «кровь» — «любовь».
УЧИТЕЛЬ (улыбается). Видишь, ошибался. «Всё вспыхнет в сердце благодарном, / Ты всё благословишь тогда, / Поняв, что жизнь — безмерно боле, / Чем quantum satis Бранда воли…»
ПАРИКМАХЕРША (тихо). «А мир — прекрасен, как всегда».
УЧИТЕЛЬ (задумывается). Да, мир не ломается… Что ни случись. Это грустно, да?
Парикмахерша сметает с пола отстриженные волосы, Учитель смотрит на них, на нее, собирается уходить.
ПАРИКМАХЕРША. Спасибо вам, Сергей Сергеевич, что зашли! И вообще, спасибо… (Учителю вслед.) Знаете, ваши литературные четверги — лучшее, что у нас было в жизни.
УЧИТЕЛЬ (уже один). Quantum satis — это из Ибсена: полной мерой. Значит, Блоку казалось невозможным, чтобы грамотный человек не читал «Бранда», а я вот, учитель литературы — и не читал. Что я вообще знаю из Ибсена? Что юность — это возмездие? Кому? Родителям? А может быть, нам самим?
2. Не молчи
Сцена пустеет. Учитель остается на ней один, стриженый, обновленный. Неясно, дома он или на улице: пианино и книги соседствуют с деревьями, с небом. Раздается шум — это кусочки последнего монолога Ксении, звуки трубы. Учитель зажимает уши руками, и шум исчезает.
УЧИТЕЛЬ. Пора сообразить, в чем моя вера, отчего, несмотря ни на что, я бываю неправдоподобно, дико счастлив. Отчего иногда просыпаюсь с особенным чувством, как в детстве, что вот это все и есть рай? Подо мной земля, надо мной небо, и вровень со мной, в мою меру — река, деревья, резные наличники на окнах, весенняя распутица, крик домашней птицы — и тут же — Лермонтов, Блок. Верю ли я, наконец, в Бога? Основное препятствие между Ним и мною — Верочка. Верочкина смерть не была необходима, смерти вообще не должно существовать. Ждать ее, как ждешь невесты?.. (Размышляет.) Нет… Сосредоточиться на вечной жизни? А нужна ли мне вечная жизнь, если в ней я не встречу Верочку? Смириться, сделать вид, что привык?.. Мирись, мирись, мизинчик… Слишком уж условия мира тяжелы: нате, подпишите капитуляцию. Говорят, Бог не создавал смерти, это сделал человек… Запретный плод, все такое. Еще говорят: она — часть разумного процесса, не будь смерти, нами так и правил бы… дьявол. Что же, во имя этого Верочка умерла? Не думаю, не знаю… Она мне на днях приснилась.
ВЕРОЧКА. Попробуй, будь счастлив без меня…
УЧИТЕЛЬ. Только голос. Почему на «ты»? Была ли это Верочка? Одни вопросы… Есть и ответы. Я верю, что из правильно поставленной запятой произойдет для моих ребят много хорошего: как именно, не спрашивайте — не отвечу, но из этих подробностей — из слитно-раздельно, из геометрии, из материков и проливов, дат суворовских походов, из любви к Шопену и Блоку — вырастает деятельная, гармоничная жизнь. Работа… Сколько еще: двадцать, тридцать, сорок лет? А там… отдых в работе, утешение в молитве, вот и настоящая старость… И, наконец, я свободен. «Радуйтесь в простоте сердца, доверчиво и мудро», — говорю я детям и себе. Не сам придумал, но повторяю столь часто, что сделал своим. Таким же своим, как сонных детей в классе, как русскую литературу, как весь Божий мир.
Пауза.
Верочка, не молчи!..
Конец Июль 2010 г.Примечания