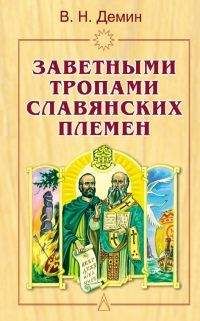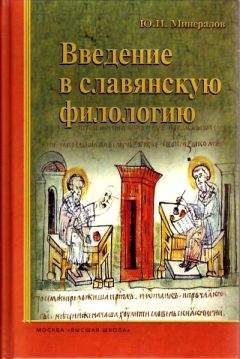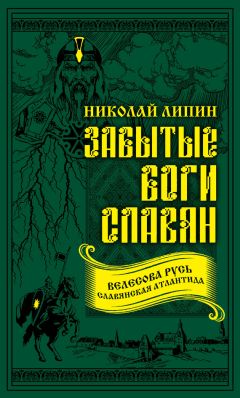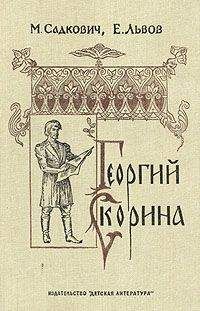Ладислав Баллек - Помощник. Книга о Паланке
Он глядел вверх в темноту, как будто ожидал какого-то просветления, которое снизошло бы на него. Может, своего ангела-хранителя. Он готов был принять его как сообщника, ему было бы кому довериться, ведь ангел-то знает о нем все. Ангел мог бы явиться к нему так же, подумал мясник с улыбкой, как явился к Тишлеровой.
С весны до осени в густой зелени Паланка царил шум почти неутихающего ветра. Тех, кто в городе недавно, ночью от этого шума пробирала дрожь. Может, от страха, а скорее всего, от внутреннего беспокойства.
Живой шум листвы, дикое и знойное дыхание ветра тревожили сон даже коренных паланчан, и взрослых и детей, будто звали их голосом тьмы то ли куда-то вверх, в высоты неба, то ли вниз, в глубины земли и воды.
Сейчас шум стих, унялся, сила и упорство его иссякли. Листья опали, в городе наступила тишина. Стали слышны людские голоса и бой городских часов, далеко разносился шум поезда, трансформаторов, мельниц. Ночью было слышно, как где-то в вышине тянутся стаи гусей. В темноте казалось, что там, над городом, летят души добрых людей.
В казармы прибыли первые послевоенные призывники, в городе снова зазвучал голос военного горна. Паланк зашумел удовлетворенно. У него снова был свой гарнизон, это вселяло веру, что жизнь возвращается на круги своя. Волент, приказчик Речана, тоже радовался новобранцам, ходил вместе с многими смотреть, как они упражняются на плацу, и потом докладывал мастеру, что солдаты лихо маршируют, поют, учатся стрельбе. Говорил, будто это самым непосредственным образом касалось его самого, что сейчас, когда американцы и русские уходят по домам, республике нужно сильное войско. Разумеется, он ходил не только смотреть на солдат, он был бы не он, если бы не толкался возле казармы в интересах торговли. Ему хотелось проникнуть в офицерские квартиры и кухни, куда его притягивало и наличие чужих, по большей части привлекательных женщин, которые, как он полагал, будут сговорчивее других.
Пока он преуспел только насчет интендантов: эти были спекулянтами по натуре; троих, конечно, с ведома Речановой, он пригласил на маленькое угощение. Ротмистр и двое сверхсрочников унтер-офицеров пришли в гости с цветами, как полагалось молодым воспитанным мужчинам, и были приняты прекрасно, потому что хозяйка дома, решив, что они пришли посмотреть и на ее дочь, не скупилась на улыбки.
С приходом Речана (он вернулся из особняка на Парковой улице) настроение упало. Он все испортил своей сдержанностью и нудными разговорами о войне и трудностях. Но жене показалось, что он попросту ревнует, да и выглядит в своей одежде не ахти как. Вечером в спальне она разделала его на все корки за это извозчичье тряпье. Когда, в конце концов, он наденет городскую одежду? Что он ходит в дерюге, как последний мужик? Разве забыл, что они теперь городские?
Он в ответ только улыбался. Кому какое дело до его одежки? Он взял табак, папиросную бумагу, положил их в карман, надел короткое пальтецо и вышел на улицу. Резкий, холодный ветер заставил его съежиться. Чирикали воробьи, голые ветки ударялись об оцинкованный желоб. В производственном зале горел свет. Значит, Волент работал. А хозяин бил баклуши, тут же укорил он себя.
Речан остановился под окном комнаты дочери и заглянул в него.
Комнатка Эвы была розовая, как почти все девичьи комнаты в Паланке. Даже изразцовая печь и та была розовая, что всегда вызывало удивление у Речана — ведь печи, считал он, положено быть темной.
Жена и дочь сидели в низких креслицах, довольно жестких, а может, и неудобных, но приятных на вид. Куки за роялем играл популярный вальс «Сказки Венского леса». Женщины с благоговением смотрели на его длинные пальцы, мальчишеское, правильное и чувственное лицо. Жена с перманентом, в кремовой блузке и коричневой юбке выглядела дамой, это он должен был признать. Дочь не отрываясь смотрела на парня, держа в руке вышитый платочек. Какая она красивая, подумал Речан счастливо, но со страхом. Просто ангелочек. Длинные светлые волосы локонами падали на узкие, еще немного угловатые плечи. На ней была белая матросская блузка с большим синим бантом на груди и синяя плиссированная юбочка. Стройная, высокая девушка хорошела на глазах. Отец не впадал в преувеличение, считая ее красавицей.
Какие у него красивые женщины, констатировал он, глядя в окно. Он гордился ими по праву. Ведь и у жены какая еще фигура! Не будь она такой дородной, никто бы ей больше тридцати не дал. Как же ее не ревновать! Он всячески скрывал свою ревность, стыдился ее, но ничего поделать с собой не мог.
Речан еще постоял, послушал вальс, который ему тоже нравился, посмотрел на столик с вином, ликерами и пирожными, потом перевел взгляд на печь с раскаленной двойной дверцей и фигурной ручкой, на люстру с тремя шарами из розового стекла и снова, но на этот раз как-то испытующе, вгляделся в лица своих женщин. Ему вспомнилось, как он посмеивался, когда жена попрекала его, что он одевается, как извозчик, а ведь смеялся-то он потому, что его это больно задело. Только сейчас он понял насколько. И дело не в обиде. Сейчас он знал твердо: ни за что на свете не войдет к ним в своей одежде. Ни за что.
И вдруг ему показалось, будто на их красивых лицах проступил отпечаток греха, чего-то незнакомого ему, чуждого и враждебного. То, что он видел в комнате еще минуту назад, его возвышало, сейчас это ощущение пропало. Не отдаляются ли они от него? Куда это они заехали, куда попали? Отчего ему кажется, что они обе в этом городе живут, а он только спит? Он делает все для того, чтобы им жилось хорошо, только и думает что о своих женщинах, а они? Дочь и здесь сторонится его, жена позволяет себе задать ему головомойку, словно мальчишке, за то, что он не так одевается, — раньше такого не бывало. Он всегда прислушивался к ее словам, возможно, она влияла на него больше, чем он на нее, вполне возможно, но никогда с ним не ссорилась. А все оттого, что они на новом месте, подумалось ему, и пока не привыкнут, будут злиться друг на друга. Надо потерпеть. Ведь поймут же наконец они обе, что намерения у него самые благие. Когда получше обживутся, снова заметят это… Ведь он и сам многого не замечает; многое от него ускользает, наверно, это вызвано тем, что здесь все для них внове.
По пути в производственный зал он, чтобы отвлечься, стал вспоминать, как начал ухаживать за женой: был август, теплый год, долгое лето. Хлеба, люди в полях, земля, лесная тень, вода, завалинки на хуторах, мимо которых он проходил, — все это тогда было освещено золотистым теплым светом… Вдруг почувствовал резкую боль и пробормотал вполголоса: «Ах, вы горы, мои горы!» Тихо застонал, устыдился своей слабости и прислонился к стене у ворот. Он бы постоял и дольше, но уже и так замешкался.
Заставил себя снова вспомнить, как ухаживал за своей женой, потому что ему казалось, что все тогда было на своем месте, чистое, милое, задушевное и ласковое, освещенное ясным светом былых времен, которые унесла война. Ушло и не воротишь, говорил он сам себе, хотя ничто из тех прежних дней для него не потускнело. Если он и любил что вспомнить, так именно тот год. Он вспоминал его с умилением, как будто даже сожалея, что не пережил всего еще глубже и напряженней. Про войну ни вспоминать, ни думать он не хотел, хотя она то и дело напоминала о себе. Нет, думать про нее ему не хотелось. Война его очень больно обидела. Он действительно воспринимал ее только как одно нескончаемое личное оскорбление, и никак иначе. Дело в том, что тогда он сплоховал. И его били резиновыми шлангами, его, взрослого человека, женатого мужчину, отца семьи! А он вопил, как баба, просил пощады… Потом, после зверского допроса, его, всего обмаравшегося, бросили к другим узникам. А ведь он всегда старался держаться степенно, чтобы только не дать повода к насмешкам…
Причиной этого мученичества, как он говорил, тоже был он сам. Из-за страха за судьбу семьи, паникерства и наивной доверчивости. Его дочь, которая всегда так гордилась им, наверно, избегала его, потому что стыдилась. Наверное, отчасти из-за этого. Да, только отчасти, ибо это было не все.
Он был оскорблен. Это слово определяло все коротко и ясно. Оскорбление! Вот именно. В конечном счете в этом заключалась правда. Но правдой было и то, что перед лицом первого испытания он сплоховал, сплоховал непоправимо. За это Речан казнил себя денно и нощно. И даже не пытался сравнивать себя с другими мужчинами. Он и раньше-то охотно всем уступал но сейчас уступал уже потому, что больше не верил в себя. Это чувство завладело им. Первой почуяла это жена.
— Добрый вечер, — сказал Речан, войдя в производственный зал, и добавил: — Задремал что-то, какой-то я слабый нынче.
Волент поздоровался, улыбнулся и продолжал работать, стоя за длинным дубовым столом; лампа с эмалевым абажуром; и он, сопя, вытаскивал из мяса кости и бросал их в жестяное корыто.