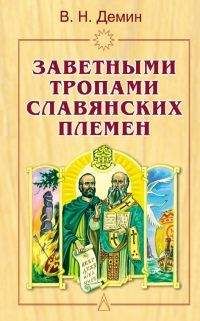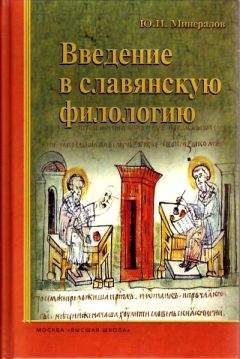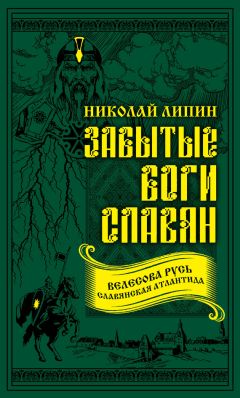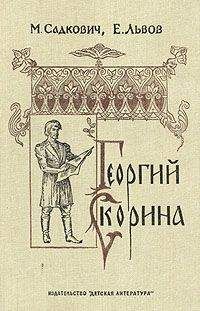Ладислав Баллек - Помощник. Книга о Паланке
Коммерческая хватка Ланчарича, его целеустремленность особенно проявились в этих поездках. Он подготавливал их уже с весны. Постепенно, с помощью железнодорожников и разных перекупщиков, съехавшихся за продовольствием, кормами и прочими товарами, он организовал целую сеть торговых пунктов.
Речан поначалу не мог взять в толк, с чего бы это его помощник так охотно раздобывал товар и не скупился на добрые советы совсем незнакомым пришлым людям. Он не знал, что этим способом Ланчарич их покупает и обязывает. Потом приказчик давал им мелкие поручения, а там уж по его просьбе они доставляли ему отовсюду информацию, приносили ответы на его письма и предложения торговцам и спекулянтам, с которыми он активно сотрудничал еще при своем бывшем мастере Кохари в годы первой республики. Когда были восстановлены связи со старыми торговыми партнерами, Волент отправился в горную Словакию сам, прежде всего к тем торговцам, о которых он заведомо знал, что они имеют доступ к товарам с маркой: ПОСТАВИЛА ЮНРРА.
Речан смотрел вслед уходящему до тех пор, пока тот не скрылся за углом.
Вот это молодец! — подумал он. От восхищения Речан даже зажмурился. Что до торговли, то тут никто ему в подметки не годится. Конечно, иной раз он бывает не в себе, частенько напивается, но в своем деле — мастак, он, Речан, сам неплохой мясник, может оценить его в полной мере. Волент знает толк в работе, лучшего мясника он в жизни не видывал, а уж какой делец, господи!
Речан не подозревал всего, чем занимался его помощник. Но полагался на него больше, чем на самого себя. Без всяких оговорок он просто восхищался им, частенько признавая, что сам ни чем не может с ним равняться. Благодаря Воленту ему не надо было заботиться о торговле. Он положился на него целиком. Это ему было выгодно. Жена ошибалась, думая, что он не заметил все увеличивающегося оборота, но Речан объяснял это так: Волент хочет доказать ему, что заслуживает доверия и справится с торговыми делами один. Других причин Речан не искал, потому что такое объяснение его вполне устраивало. В самом деле, подозревать Волента в отсутствии интереса к хозяйским делам он никак не мог, это уж нет, а вот насчет больно активной смелости и дерзости Волента — с этим было хуже. Не то чтобы Речан не замечал, нет, он только недооценивал их, а может, и закрывал на них глаза.
Однако о его контактах с контрабандистами он знать ничего не знал. Просто не подозревал, что они существуют. Он слишком часто мерил людей по себе, да, такое с ним случалось. Он допускал, что способности могут побуждать человека к действиям, хотя сам-то он никакими такими способностями не отличался. Он всегда мечтал о каком-нибудь таланте, потому и понимал других. Но догадаться, что одаренный человек может рисковать всерьез, он не мог. Господи, зачем?
Во всем, что касалось его дел, Речан продолжал свою политику.
Он понял, что в торговле ему с Волентом Ланчаричем не сравняться. И в практических делах со своей женой — тоже нет. Он сознавал, что должен вести себя по-хитрому, иначе ему не совладать с ситуацией, в которой он в Паланке очутился. Заботы о дочери Эве он предоставил жене. Она лучше понимает, что нужно для Эвы, чтобы их единственная дочь достойно вышла замуж и попала бы в так называемое лучшее общество. Разве он знает, что для этого нужно? Откуда ему знать? Деньги у Эвы есть, но здесь, в Паланке, это еще не все. Такая девушка, как Эва, наряду с заманчивым приданым должна слыть и барышней из хорошей семьи.
Конечно, продолжал размышлять Речан, он должен управлять хозяйством так, чтобы торговля у него процветала, но чтобы это не слишком бросалось в глаза, а было в меру, чтобы дом его был достоин внимания и того самого лучшего общества, куда он хотел бы ввести свою дочь Эвичку. Это была его мечта. Другой у него, собственно говоря, и не было. О себе он не заботился, о жене в этой связи не думал.
Он предоставил Воленту свободу действий и для того, чтобы тот, не дай бог, не сбежал от него, а жене позволил наряжаться и, как тогда говорилось, держать себя барыней. Волент, став самостоятельным, работал так, что у него в руках все кипело, жена по приезде в город очень скоро повела себя как особа понятливая и практичная, которую не собьет с толку даже этот гордый и спесивый Паланк.
Речан был убежден, что это он разбудил их активность. Это благодаря ему в доме все без исключения прямо или косвенно только и думали, что о счастье его дочери.
Показался почтальон. В длинном плаще и в круглом кепи, оно напоминал французского полицейского. Это был господин Блашко, бывший дунайский матрос. О нем говорили: человек честный и добросовестный. Ну конечно, ведь он верующий, и у него семь сыновей. Понимаете? Семь сыновей! Сколько раз вы такое слышали! Ибо людям это нравилось.
Блашко больше не мучил ревматизм и страх перед заминированным Дунаем, и он уже начал мечтать о своей дунайской водичке. Рядом с собой он вел велосипед, который здесь каждому был известен своим старомодным колокольчиком со шнурком, карбидным фонариком, двумя багажниками для посылок (впереди и сзади) и с сеткой над задним колесом.
Почтальон направился к мясной Речана и, еще не дойдя до лавки, вынул из сумки синий конверт. Он был адресован дочери, поэтому Речан направил почтальона во двор.
Почтальон вошел, не успели его шаги затихнуть под сводом ворот, как Речан уже подумал, что пора бы ему убраться со двора. Минуты, которые почтальон провел в доме, показались ему вечностью.
Едва Блашко направился от их дома дальше, мясник закрыл дверь и украдкой вышел во двор.
Тихонько подошел к дверям на кухню и прислушался, что происходит внутри. Через дверь уловил запах жареного сала и доваривающихся галушек с творогом.
— Ну, чего там? — послышался вдруг голос жены.
— Ничего, — отрезала дочь.
— Как так, ничего? — переспросила мать.
— Так вот, ничего. А чего бы ты хотела? — снова огрызнулась дочь, но, немного помолчав, начала равнодушно, по своему обыкновению, рассказывать: — Ничего такого, все по-старому… Марка ждет ребенка, богачовскую корову Малину раздуло, Добричиха болеет, у нее опять падучая… все, которые были по лагерям, вернулись, не пришли только трое. Враштяк… говорит, это Марка мне пишет, что из того транспорта, ну, где, она пишет, и он быв… был? — ну да, был, так надо правильно сказать… из того, значит, многие не вышли живыми, они в бомбежку попали, эти в самолетах подумали, ну, эти, американцы… что немцы по железной дороге гонят свиней и боеприпасы. И еще, мол, кое-кто из лагерных такие были доходяги, что их пока по госпиталям держат… А какие и вовсе потеряли память, в голове у них никак не прояснится, и их не могут привести в норму.
— Господи! — вздохнула мать, но как-то неискренне, скорее машинально, и стало слышно, как она отряхивает деревянную мешалку, постукивая по стенке жестяной кастрюли. — Это жизнь, милая моя, уж кому что на роду написано.
Дочь что-то пробормотала.
— Счастье не сидит на месте, — ответила ей мать.
— А на чем ему сидеть, коли не на чем? У этого твоего счастья что, задница есть? — рассердилась дочь.
Речан старательно вытер ноги, ему казалось, что они окоченели, пока он стоял перед дверью. Он вошел в кухню, решив, если понадобится, сказать, будто ему захотелось пить, но женщины заметили, что он приходил, только тогда, когда он, выходя, резко захлопнул за собой дверь.
После обеда Речан долго сидел за столом, ожидая приказчика. Но тот не приходил.
Мясник начал клевать носом, но прилечь как-то стеснялся, однако под конец не выдержал и отправился на боковую.
Когда Речан проснулся, начало смеркаться, и в кухне царил полумрак.
Он некоторое время хлопал глазами, не понимая, что с ним. Потом сообразил, что спал. Это как будто обрадовало его, он прикрыл глаза и вздохнул спокойнее. Откинул грубошерстное, но теплое солдатское одеяло, сел, спустил босые ноги с дивана на холодный пол кухни и начал медленно протирать свое узкое, побледневшее, монашеское лицо, потом шею, потную и напряженную, словно обессилевшую от долгого крика. Потянулся за солдатскими сапогами из сыромятной кожи, завязал шнурки галифе вокруг худых икр, заботливо обернул ноги портянками, которые подсохли и остыли за время его сна, и обул сапоги. После этого он тут же взялся за картуз, чтобы прикрыть преждевременно облысевший череп, острый и довольно маленький для мужика, чего он иногда стыдился.
Рассеянно хлопнув себя по ляжкам, Речан повернулся к деревянной полке над диваном, где стоял небольшой радиоприемник, лежали календари, и также его курительные принадлежности: папиросная бумага и кожаный кисет с табаком.
Ни с того ни с сего, как это часто с ним случалось, тихо сказал: «Поле, чисто полюшко, покуда ты мое? Вот по ту тропиночку…» — и сам этому усмехнулся. Со стоном запрокинул голову и, сидя, потянулся за куревом. Слегка послюнив пальцем, он вынул из красноватого пакетика папиросную бумагу с нежными водяными знаками, приклеил ее уголком к нижней губе, высыпал на ладонь кучку табаку и, ни о чем не думая, долго разминал его. Выбросил два небольших корешка, осторожно, чтобы не надорвать себе кожицу (с бумажкой у него уже был такой опыт), отклеил папиросную бумажку от губы, сделал между пальцами правой руки подходящий желобок и высыпал в него табак. Чтобы лучше видеть, приблизил руки к глазам, облокотился на ляжки, указательными пальцами разровнял табак, ловко скрутил бумажку, быстро облизнул ее — и сигарета была готова. Держа ее в уголке рта, глубоко вздохнул. Он настолько сосредоточенно совершал этот ритуал, что почти не дышал.