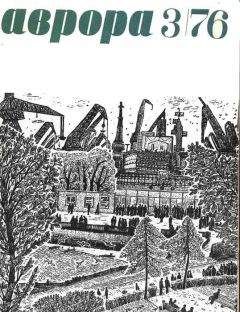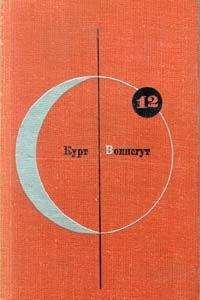Марина Палей - Месторождение ветра
Так или иначе, все Аннушка сделала правильно. Она сама себя обмыла (и сообщила по телефону Марии, чтобы не быть потом в тягость). Халат, что она купила, родственники надели на нее, и в гробу, прикрытый простыней, он вполне сошел за нарядную блузу. Она увязала узлы, сэкономив родичам время.
Одно Аннушка сделала неправильно. «Не дожила двух дней до пенсии», — сказали родственники.
«Не дождалась она Кольку», — говорила потом Евгеша. Я была поражена. Я забыла о нем. А она ждала свою краснорожую скотину (он пугал Евгешу еще и тем, что хочет оформить над Аннушкой опекунство), ждала, почитай, больше года; я краешком естества ощущала только благодать, как если бы исчез невыносимый запах, сверлящий звук, мерзкий, тревожный цвет. А она страдала и не находила места. Потом нашла.
Я рада, что государство выделило отдельную могилу для Аннушки. Несмотря на дефицит земли, на которой надо строить, потому что дефицит жилья, и сеять, потому что дефицит жратвы, и много чего надо делать тактико-стратегически необходимого, — для Аннушки все же нашлась отдельная могила. Там не будут течь угол, гнить рамы, проседать полы, — точнее, мы не знаем, что там будет, а чего нет, — но и то хорошо, что обремененное государство, к чести его, без особой проволочки передало Аннушку в неподведомственную инстанцию, и теперь мне с отрадой почему-то сдается, что Аннушка на месте и ей хорошо.
А иначе — как могло быть? Вполне могло быть иначе. Не окажись у Аннушки Марии и Надежды — отправили бы ее после холодильника на вскрытие, а оттуда — куда? — людям на пользу. Когда мы в мединституте анатомировали трупы, нам говорили: это бомжи и те, кто без родственников. На экзамене по анатомии мы подходили к трупу и пинцетиком припрятывали друг для друга между его наформалиненных мышц спасительные «шпоры». Иначе экзамен было практически не сдать. А это значило: остаться без сорока рублей стипендии. С учетом того, что подрабатывать нам было строго запрещено, это обещало попросту нищету и голод — в первом словарном значении. Таким образом, окажись Аннушка на учебном анатомическом столе, она и тут принесла бы пользу.
Да что там! Впоследствии выяснилось, что родственники не обнаружили у Аннушки в заветной сумочке ее похоронных денег. Возможно, я беру грех на душу, но твердо подозреваю того толстого суетливого врача, который долго в одиночку возился возле Аннушки и задним числом звал нас свидетелями, чтобы снова, для вида, поковыряться в сумке, где лежали деньги и справки. Потом мне объяснили, что искать справки было излишним. Мне также рассказали, что такой вид кражи — самый рядовой. И что же? Конечно, в итоге родственники похоронили Аннушку за свой счет. И я хочу сказать Анне Ивановне, которая теперь, на месте, меня слышит хорошо, что ведь этим-то самым, утратой накопленной суммы, она подарила им возможность почувствовать себя людьми честными, порядочными, выполнившими свой долг. Таким образом, пользу она им принесла неоценимую.
…И вот освободилась комната. Я долго не решалась туда зайти. Но как-то Евгеша заметила мне: «Чего ты боишься? Она была человек добрый, простой, легкий, — и ничего в этой комнате страшного нет».
И точно. Я зашла — и северная комната показалась мне светлой. Легкая душа Аннушки, возвратясь в лучи золотистого света, ничем о себе на напоминала. А тело ее с пользой освободило жилплощадь, на которой будет расти мой сын.
Я подошла к окну и долго смотрела на золотые купола Никольского собора. Да что же это! Как ни поверни — обречена она была, что ли, приносить только пользу, пользу, ничего кроме пользы? Почему так?! Холстомером она родилась, что ли?..
…В тот день с утра шел дождь, и я долго добиралась до монументального, похожего на райком партии здания судебно-медицинского морга.
Наконец добралась. Я вошла в зал, где стояли закрытые гробики, и на каждом была фотография ребенка. Перед каждым гробом, не двигаясь, стояла женщина в черном и неотрывно смотрела на фотографию. Мне объяснили, что это зал для детей, погибших так, что их невозможно показать матерям.
Я вышла на воздух.
Потом я заглянула в другую дверь и спросила санитара, здесь ли находится такая, такая-то. Он ответил: да, здесь.
Ответ был на удивление быстр. Странно. Приди я при жизни Аннушки в жэк, поликлинику, исполком — любую контору и спроси: здесь ли находится (в списках) такая, такая-то? — там долго бы рылись, искали, с раздражением тявкая, что ее тут нет, возможно, вы ошиблись, приходите (позвоните) завтра, вот выйдет из отпуска такой, такой-то… Сразу стало бы видно, что Аннушка, даже отрытая в завалах государственных бумаг, ютилась там случайно, полузаконно, из милости.
А в морге я спросила: здесь? Мне мгновенно ответили: здесь. Как будто это задолго уготованное ей место было единственно законным.
Я вошла в зал. Я обнаружила Аннушку по ее племянницам. Они серьезно смотрели в гроб.
Аннушка в гробу была очень красива. На лбу, из-под белого платочка, виднелась узорчатая бумажная ленточка с молитвами. Гроб, насколько я разбираюсь, был вполне пристойным. В гробу Аннушка была удивительно на месте, и эту гармонию уже невозможно было сломать.
…Дождь продолжал идти, потом перестал. Мы ехали в похоронном автобусе вдоль того берега Обводного канала, мимо сумрачных, сосущих душу зданий.
В соседнем доме окна желты.
По вечерам — по вечерам
Скрипят задумчивые болты,
Подходят люди к воротам…
— А вот тут тетя работала, — сказала Мария. — И вот тут она работала. Тетя, посмотри, ты всю жизнь тут работала, попрощайся…
Стоял обычный тусклый петербургский день. Мы ехали окраинами. Мелькали указатели, потом стало пусто, и Надежда сказала, что не помнит, как ехать. Мария заплакала. Они решили похоронить Аннушку недалеко от деревни, где жила еще одна, неизвестная мне племянница. Там уже все утрясли в сельсовете. И вот мы сбились.
Мы плутали, как в дурном сне. Черные горбатые елки торчали по обочинам безымянной дороги.
Потом мы приехали. Ветер со всех сторон обдувал этот бесприютный клочок земли, катал пустые бутылки по могилам, которые можно было перечесть на пальцах, — он гонял бумажный цветочный сор по малочисленным виноватым могилам, словно случайно и временно оказавшимся здесь. Это было место на самом краю света, и я поняла, что никто никогда не навестит здесь Аннушку: живые не ездят по этой дороге дважды.
Я сразу же забыла, как оно называется, это место, — то ли Задорóжье, то ли Забрóдье, то ли Зáборовье, — только помню, что — за… за… за…
Местная безымянная племянница терпеливо дожидалась, когда гроб выгрузят из автобуса, поставят на землю, снимут крышку, расступятся, — чтобы, выдержав необходимую паузу, правильно открыть рот, взять сколько следует воздуха и в безошибочной тональности заголосить: «Ах, тетушка, родненькая, сколько же я тебя, дорогую, звала сюда приехать, а ты все не могла, кровиночка, и вот — собралася!.. Приехала!..»
Мария и Надежда грамотно подпевали.
Прохладные лапки дождя принялись трогать сухие щеки тех, кто не плакал, гладить мокрые лица плакавших и залезли в гроб к безучастной Аннушке. Племянницы забеспокоились. Следовало опускать гроб в могилу, Мария теребила длинные полотенца, могильщики нервно переминались, матерясь пока втихаря, а между тем застрял где-то в дороге, заплутал на личной машине сын Марии с чады и домочадцы. Мария несколько раз выходила встречать машину далеко на дорогу и стояла подолгу на перепутье — прямая, напряженная, ждущая.
Спине Марии подошли бы библейские холмы. Я видела их голубые пологие склоны, нежную пыль на пустынной дороге, над которой плыла к нам по воздуху Мария, мелко и радостно крестясь. Сзади нее заблудшей овечкой вырастала личная машина сына. Машина догнала Марию и приняла ее в свое лоно.
IX
Мокрый ветер стер паутину, и в синем сиянье повисли сахарные облака. Мария обсыпала могилу белым сладким рисом, Надежда украсила ее разноцветными цветами, и больше было розовых цветов. Воробьи чвирикали, слетаясь к холму, к рису, — подтверждая правильность ритуала; места и риса хватало всем. Мария дала и мне ложечку кутьи («Так у нас принято»), Надежда поднесла стакан красного. Остальные выпили водки.
Нет, что ни говори, Аннушка была Богу угодна. Вот ведь, не погибла она в детстве, чтобы обездвижить горем свою мать. И не вмерзла в кровавый навоз на сибирском тракте. И не в больничном коридоре, по горло в собственных испражнениях, она угасла. И она не озлобила своих дальних родственников пустыми хлопотами вокруг разлагающейся плоти. Она умерла в преклонном возрасте, на своей жилплощади, на собственной койке, просто и быстро. Она успела справить земные дела и устать. Да и время года подгадала она наилучшее — белые ночи, сладостный июль, маковку лета, податливую, ласковую, родственную всему живому землю, а вовсе не стужу и грозный петербургский мрак, и не пришлось могильщикам трудно долбить яму, а родственникам переплачивать за переусердие. И вот еще: ведь и погода летняя бывает всякой, а наша-то чаще всего — наигнуснейшей (и в те времена, когда Петербург, притворяясь Венецией, смущает горожан бутафорской небесной синевой, — такая погода еще хуже привычной промозглости, как улучшение больного перед самой смертью, — и так тревожат эти опереточные небеса, и не хочется привыкать к ним…). А тут, вот ведь, после дождичка вдруг сделалась ясная, но — и без ярких Италий — тихая такая, сугубо местная погодка. Стакан красного стучал в моей голове, расширяя ее до границ видимости, невидимости, растворял, делал невесомой, неуязвимой для тревог и страхов. Вот только то плохо, что положили Аннушку глубоко, хотя и не в воду.