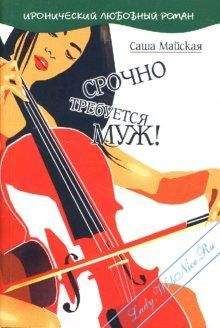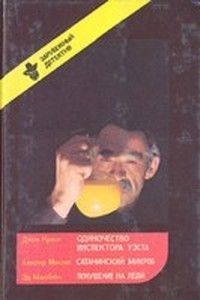Юрий Герман - Жмакин
— А что, плох? — спросил вошедший.
— Да так себе табачишко, — говорил Лапшин, с удовольствием поглядывая на гостя. — Ну-ну, покажись… То-то приоделся…
— Помаленечку, — говорил гость, снимая великолепное пальто и аккуратно сворачивая кашне, — и сам приоделся и Иван Михайловичу привез. На-ко…
И он вынул из кармана маленькую коробочку.
— Бритву привез? Ай молодец, — сказал Лапшин, — я сколько годов хорошую бритву ищу. Ну спасибо…
Пока Лапшин разглядывал подарок, а гость ему объяснял, как с этим подарком обращаться, Жмакин исподлобья рассматривал и оценивал гостя. Человек этот был среднего роста, тяжеловат, еще молод и имел во всем своем облике нечто удивительно уютное, слаженное и устроенное. Вот вынул он из кармана зажигалку, щелкнул, — и здорово получилось. Заправил папиросу движением языка, прищурил один глаз, — и всем стало понятно, что курить ему вкусно, дым теперь вовсе не мешает, а что касается до бритвы, привезенной из Америки, то нет ничего проще и легче, чем эту бритву разобрать и собрать вновь. И слова, которыми он пользовался, тоже были удобные, ясные и плотные. «Ничего дядька», — подумал Жмакин и взял со стола зажигалку. «Дядька» поглядел на Жмакина бурым медвежьим оком. Жмакин попробовал щелкнуть. Ничего не вышло. У Лапшина тоже ничего не выходило из сборки и разборки бритвы.
— Ну ладно, потом, — сказал он, — садись, Федор Андреевич. Рассказывай. Понравилась Америка? И познакомься. Жмакин — некто.
Познакомились, сели. Урча, Федор Андреевич рассказывал про Америку и собирал бритву. Собрал, разобрал. Руки у него были короткопалые, темные, рабочие и, видимо, чрезвычайно сильные. Собрав и положив бритву в футляр, он еще боком пригляделся к Жмакину, потом спросил:
— Он и есть?
— Он самый, — сказал Лапшин. — Но я тебя должен сразу предупредить: жулик.
— Воровали? — спросил Федор Андреевич.
— Приходилось, — сказал Жмакин.
— Вор хороший, — сказал Лапшин, — ловкач парень.
— Специальность имеет? — спросил Федор Андреевич.
— Имел, — сказал Жмакин, — слесарил немного, монтер также.
— Будете воровать или работать будете?
Жмакин молчал.
Лапшин глядел на него с любопытством.
— Я спрашиваю, — перейдя на «ты», сказал Федор Андреевич, — будешь воровать или работать будешь? За воровство посажу немедленно. Будешь работать, как человек, — выдвину, помогу, материально обеспечу — лучше не надо.
Потея от напряжения, Жмакин поднял голову и встретился взглядом с холодными, неприязненными глазами.
— Только сразу и без дураков, — сказал Федор Андреевич.
— Ладно, — сказал Жмакин.
— Что значит ладно? Тебя никто не неволит, — сказал Лапшин, — не хочешь, не надо.
— Хочу, — с трудом сказал Жмакин.
— Слово?
— Слово, товарищ начальник, — сказал Жмакин и опять взглянул на Федора Андреевича.
Тот уже писал в блокноте размашистым, крупным почерком. Потом оторвал бумажку и протянул ее Жмакину.
— Завтра в десять придешь по этому адресу. Записка вместо пропуска. Звать меня Пилипчук…
— Паспорта у меня нет, — сказал Жмакин.
Лапшин и Пилипчук переглянулись. Жмакин встал.
— И жить мне негде, — сказал он.
Пилипчук опять вынул блокнот и написал вторую записку.
— О, — сказал он, — иди сейчас туда, там будешь спать. Потом подумаем.
— Да прямо иди, никуда не заворачивай, — сказал Лапшин, — завернешь — пропадешь.
Жмакин оделся, нахлобучил кепку. Лапшин вывел его в коридор. Здесь было полутемно.
— Погоди, — сказал Лапшин, — возьми денег.
Он вынул бумажник, бережно отсчитал три пятерки, потом еще одну рублями и протянул деньги Жмакину. Жмакин не брал.
— Возьми, ничего, — сказал он Жмакину, — после получки отдашь.
— Спасибо, товарищ начальник, — сказал Жмакин, — только я не возьму.
— Ну и дурак, — сказал Лапшин и спрятал деньги в бумажник. Потом подал Жмакину руку.
— Звони, коли что. Иди!
Не торопясь, Жмакин пошел по коридору и лестнице. Не торопясь, спустился вниз, вышел на площадь и по Зимней канавке к Неве. Где-то далеко играла музыка. Жмакин закурил, потер ладонью щеку, прочитал под фонарем адрес на записке, застегнул пальто и быстро зашагал на Васильевский остров, на Вторую линию, дом помер девяносто три, гараж.
В проходной гаража Жмакин показал записку дежурному. Тот повертел ее в руках и ушел. Вернулся он вместе с небольшим старичком. Старичок надел пенсне, слегка закинул назад голову, осматривая Жмакина, и повел за собой в деревянную часовню. Ворота в часовне были закрыты и забиты наглухо войлоком, и действовала одна только калитка, такая низкая, что Жмакину пришлось нагнуться. Старичок проворно захлопнул за собой калитку и сказал Жмакину:
— Располагайтесь!
Жмакин не торопясь огляделся. Часовня была превращена в квартирку, странную, но уютную, немного только уж слишком заставленную вещами. Посредине из купола спускалась лампа под самодельным абажуром. Стол был накрыт скатертью, белой и чистой. Было много книг на простых деревянных покрашенных полках, был чертежный стол, телефон висел на степе, пахло ладаном, застарелым свечным воском и табаком.
— Интересная квартира, — произнес Жмакин.
— Да, — равнодушно сказал старик и, поправляя пенсне, слегка закинул назад голову, осматривая Жмакина по-стариковски сверху вниз.
Жмакин сиял пальто, кепку, повесил на гвоздик, сел за стол. Старик представился — назвал себя Никанором Никитичем.
— Алексей, — сказал Жмакин.
Сидели молча. Никанор Никитич покашливал, Жмакин барабанил пальцами по столу, не находя темы для разговора. Старик предложил чаю, Жмакин отказался.
— А вещички ваши? — спросил старик.
— У меня нету вещей, — сказал Жмакин.
Старик подвигал бровями.
— Так, так, — сказал он, — может быть, желаете соснуть?
— Вы не пьете? — спросил Жмакин.
— Иногда, — сказал старик.
Жмакин поднялся, достал из бокового кармана пальто бутылку и откупорил, ударив по донышку. Никанор Никитич поставил две рюмки и баклажанную икру. Выпили.
— Если в записке не написано, — сказал Жмакин, — то вот я вам говорю: я вор-профессионал. Много лет воровал. Теперь кончено, крышка. Буду в люди пробиваться. Это чтобы вы не думали, что я скрываю. А выпивать — тоже крышка. Последний раз. Не верите?
— Так, да, так, — неопределенно сказал старик. — А у меня, знаете ли, тоска.
— Почему? — спросил Жмакин.
— Сынишка погиб, — сказал старик. — Живу теперь один.
Понюхав корочку хлеба, он сбросил пенсне и рассказал, что сын погиб, работая шофером на грузовике, — машина потеряла управление и с ходу свалилась под откос.
— Практику отбывал мальчик, — глядя поверх Жмакина, говорил Никанор Никитич, — учился в автодорожном институте. Вот фотографии…
И он, морщась, точно от боли, стал показывать Жмакину карточки одну за другой.
— Я в провинции жил, и вдруг телеграмма. Такой удар, такой удар. И никого у меня, знаете ли. Один, как перст. Я по специальности педагог. Русский язык преподаю. Ну-с, приехал на похороны. Лежит мой мальчик в гробу. Что делать? Я, знаете ли, засуетился. Заболел. И без меня его похоронили. Это было очень, очень тяжело. Ну-с, и вот тут появился товарищ Пилипчук, тот, который вас ко мне прислал. Вы его хорошо знаете?
— Нет, — сказал Жмакин.
— Светлая личность, — воскликнул старик, — большой души человек. Он меня не выпустил и поселил тут. Странно — педагог, и вдруг гараж. И, знаете ли, привык я. Не понимаю сам, но привык. В школе преподаю. А по вечерам тут, в гараже. Преподаю русский язык, грамоте подучиваю. Кое-кто сюда в часовню ко мне ходит. Вокруг люди, машины фырчат, шум вечно, и так внимательны ко мне, так внимательны. Особенно сам товарищ Пилипчук. Заходит ко мне. Вот он сейчас из Америки приехал. Сразу ко мне зашел.
— А Пилипчук коммунист? — спросил Жмакин.
— Да, он состоит в партии, — сказал старик.
— А ваш сын?
— Состоял в ленинском комсомоле.
— Давайте еще выпьем, — предложил Жмакин.
— Давайте, — сказал Никанор Никитич.
Еще выпили.
— Я пару дней назад, — сказал Жмакин, — одного кореша своего уголовному розыску выдал.
— Что значит кореш? — спросил старик.
— Вроде приятель, — сказал Жмакин, — мы с ним в заключении находились. Некто Корнюха. Людей, собака, стал убивать.
— Ай-яй-яй, — сказал старик.
— Выдал к черту, — сказал Жмакин, — может, кто меня и считает теперь, что я ссучился, но я плюю. Верно?
— А что такое ссучился? — опять не понял Никанор Никитич.
Жмакин объяснил.
— Так, так, — сказал старик, — это жаргон?
— Жаргон.
Не торопясь, Никанор Никитич собрал со стола фотографии и включил электрический чайник. Чайник зашумел. На стене мерно и громко тикали пестрые ходики.