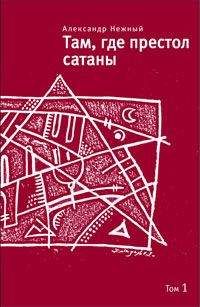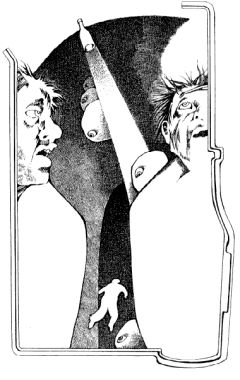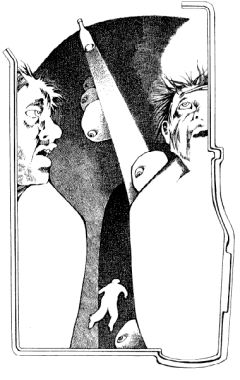Александр Нежный - Там, где престол сатаны. Том 2
Безжалостной рукой схватив епископа за волосы, тот поднял его голову, заглянул в глаза и доложил:
– Она чего-то вроде плохо ведет. Смотрит, а не видит.
– Это все ты, чурка нетесаная! – отчаянно закричал Подметкин и в досаде даже карандашик свой швырнул на пол и потом, отыскивая его, нагибался, кряхтел и еще сильнее обливался потом. – Уф! – утерся он платком. – И что теперь прикажешь делать? Мне его показания – во как!
И ребром ладони он провел по расстегнутому на одну пуговицу воротнику гимнастерки.
– Давай, Исмаилка, сделай с ним что-нибудь… Некогда нам канитель с доктором разводить!
– А я чего… Воды я ей дам, что ли?
Но напрасно лил азиат воду на седовласую главу Иустина, напрасно хлопал его по щекам ладонями с толстыми, короткими, будто обрубленными пальцами и кричал ему в уши, чтобы кончал катать дуру, – епископ молчал, сползал со стула и невидящим взором глядел на зеленеющую за окном чинару.
– Эх, – Исмаилка подхватил Иустина и усадил его ровнее. – Совсем она помирает, что ли?
– Камфору! – хотел было крикнуть Сергей Павлович. – Внутривенно! И нашатырь!
Сухой горячей рукой Кириак закрыл ему рот.
– Гефсиманию помнишь?
– Помню, – поспешно отвечал Сергей Павлович, с гнетущим чувством собственного бессилия наблюдая, как белеет и без того бледное лицо Иустина и как все ярче проступают на нем кровоподтеки, синяки и ссадины – следы палаческого усердия исполнительного Исмаилки.
– Не Моя воля, но Твоя да будет… Помнишь?
Доктор Боголюбов кивнул.
– А помнишь, что сказано: или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов? Как же сбудутся Писания, что так должно быть? Помнишь?
– Да, – сказал Сергей Павлович с внезапной дрожью в голосе. – Я помню.
– Вот и подумай умной головой: разве не спас бы нас Господь от лютой сей муки, ежели не должно было так быть?
«Но зачем?!» – едва не завопил Сергей Павлович, но Кири-ак словно печать поставил ему на губы своей сухой горячей ладонью. Тем временем, вызванный Подметкиным по телефону, явился врач в белом грязном халате поверх гимнастерки и галифе, в растоптанных тапочках на босу ногу, отвел Иустину нижние веки, пощупал пульс и сунул ему под нос ватку с нашатырем. Епископ дернулся и застонал.
– Говорить стала, – обрадовался Исмаилка. – И глаз туда-сюда пошел!
– Ты ему чайку с сахаром дай, – сквозь глубокую зевоту едва вымолвил врач. – Жара проклятущая. Целый бы день спал. И работай. Он сколько тебе надо, столько и протянет.
Подметкин засуетился. Чайку. Мигом. Сахара два куска. Нет, три. Ложечкой. Он размешал сахар и протянул стакан азиату:
– Накось. Аккуратненько, зря не лей!
С мучительным стоном Иустин приоткрыл рот и попытался сделать глоток. Но то ли Исмаилка хотел побыстрее влить ему стакан, то ли глотать епископу было трудно – чай пролился мимо и потек по бороде.
– Ты зачем так?! – рассердился Исмаилка. – Сладкая, вкусная, а ты чего?!
Подметкина осенило.
– Ты вот ему как давай, – он извлек из ящика стола белую тряпицу. – Намочи – и по капле… Понял?!
И глядя на то, как азиат по капле выдавливает из тряпицы чай в полуотверстый рот епископа, Кириак медленно перекрестился.
– Перекусить не желаете? – как радушный хозяин, пригласил Сергея Павловича капитан Чеснов. – В вашу честь в буфете сосиски. Народ ликует.
Доктор Боголюбов яростно затряс головой. Какие, будь они прокляты, сосиски? В знак безмерного удивления молодой человек поднял брови. Как прикажете истолковать отказ от вкусной, здоровой и редкой в наше время пищи? Что это? Солидарность с жертвами беззакония? Смирение плоти ради достижения духовного совершенства? Добровольно возложенные на себя вериги постного воздержания? Благодетельный пример отцов-пустынников вкупе с непорочными женами, показали бы хоть раз одну такую?
– Кусок в горло не лезет, – кратко объяснил Сергей Павлович отвращение к сосискам, на что капитан сокрушенно и молча развел руками.
– Скажите-ка теперь, гражданин Седых… Вы утверждали, что христианство и марксизм в Советском Союзе будут вести между собой ожесточенную борьбу… Вот изъятое нами ваше письмо, где вы излагаете эту и другие подобные мысли. Вы в самом деле так считаете?
Вместо ответа Иустин утвердительно прикрыл глаза, затем открыл их и, собравшись с силами, шепнул:
– Мое глубокое убеждение.
– И эта борьба, – будто порох, вспыхнул Подметкин, – намечалась вами в рамках вашей подпольной церковной контрреволюционной организации?
Разбитый рот епископа дрогнул в усмешке. Он кивнул. Намечалась. Так-так-так – победно простучал карандашик. Следствию все более или менее ясно. Но есть еще вопросик. Вы – и карандашик, минуя Исмаилку, поочередно указал на Кириа-ка, Иустина и Евлогия – встали на путь борьбы с Советской властью, для чего создали в стране, в городах, на предприятиях и в крупных колхозах разветвленную подпольную сеть фанатично настроенных церковников. Налицо заговор с целью свержения законно существующего государственного строя.
У Сергея Павловича дрожала правая рука – то ли от непрерывной скорописи, то ли от сжигавшей его тревоги за судьбы стариков-епископов. Тревога, впрочем, была напрасной, он понимал. Все решено – и даже не Подметкиным, и не теми, кто над ним, и даже не теми, кто в Кремле. Он всего лишь писарь у Господа Бога, а по совместительству – молитвенник об упокоении душ замученных старцев, идеже нет слез и воздыханий, но радость вечная.
– Ты свидетель верный, ты расскажешь, – едва слышно прошелестел Кириак. – Помнишь ли, какова на вкус была книжка, которую тайновидцу дал Ангел?
– Сладка в устах, но горька во чреве, – не колеблясь, ответил Сергей Павлович.
– И я, недостойный епископ Кириак, перед неизбежной моей гибелью тебе предрекаю: неизбывно будешь носить в себе эту горечь, пока всему народу не будет известна правда о нас, и пока не потрясутся сердца и не переменятся души. Еще запомни слово мое: не нужны России пышные храмы, а нужны чистые души. Чистая душа сама себе храм построит. А все остальное… – Он едва пошевелил покоящейся на коленях высохшей, с крупными коричневыми пятнами правой рукой. – Гляди и пиши.
– И чего ты, батя, все бормочешь и бормочешь, – на манер старого цепного пса проворчал Подметкин. – Нас, что ли, всех к чертям в ад посылаешь? Советскую власть клянешь?
– Советская власть – попущение Божие за наши грехи.
– А как понимать, – впился Подметкин, в бессчетный раз утирая платком потное лицо, – наши грехи? Мои, что ли, в том числе? И, может, товарища Сталина?
– А вы стариков велите бить смертным боем, которые вам в отцы годятся, – это не грех?
– Не грех, – не раздумывая, отрубил Подметкин. – Служба. А я Советской власти по всей моей совести служу, которой вы лютые враги.
– И у Сталина грех – людей безвинных по всей стране мучить и смертью казнить.
– Так-с… – и, макнув перо в чернильницу, Подметкин с особой тщательностью занес в протокол клеветнические высказывания подследственного Боброва (Кириака) о товарище Сталине. – Все, значит, вокруг тебя в дерьме по самые по уши, а ты у нас один весь в белом. Так, что ли?
Кириак горестно вздохнул. Нет. Среди всех грешников он наибольший. Почему? Да потому что с него, служителя Христова, первый спрос за пролитую в России кровь! За людей ее, без счета побитых, за поруганные святыни и охладевшие к Богу сердца. Он виноват. Его грех, и Господь с него за это взыщет. И что прорыдает он в свое оправдание на близком уже Страшном Суде? Что спал сладким сном, а когда по грому потрясшего всю Россию набата встряхнулся, отверз очи, огляделся, – то поздно было, уже, Господи, вытаскивать народ из огня, который попалил тысячелетнее Отечество! К чему нам, Господи, были парчовые ризы, драгоценные панагии и шитые золотом митры, если наше стадо расхитили волки? К чему внешний блеск, если внутри тьма? К чему благоволение мира, если он отвернулся от Света, который просвещает всех? К чему проповеди, если сыновья подняли бунт против Отца? Подметкин откашлялся. Достаточно. Туману поднапустил. Кириак усмехнулся. Однако уточним: волки, расхитившие ваше стадо, – это кто?
– Сказать, что только вы – много чести, – с одышкой промолвил митрополит. – Но и вы в том числе.
– Да-а, батя, – аккуратно положив ручку перышком на чернильницу и закинув руки за бритую голову, удовлетворенно вздохнул Подметкин. – Наговорил… Враг ты неразоружившийся, несдавшийся и опасный, вот тебе мой сказ. Но вопросик. Последний. Нет – предпоследний… У нас, в Советском Союзе, для церкви и отправления религиозного культа предоставлена полная свобода. Есть учреждение… оно, вроде, и при царях было. Синод. И есть во главе его этот… ну как там его… Сергий!.. Он вроде тебя, в таких же чинах…
– Страгородский… митрополит… – болезненно морщась, шепнул Евлогий.