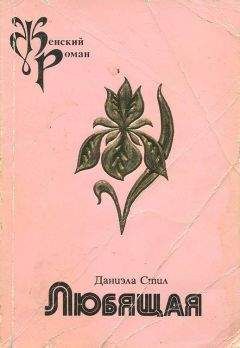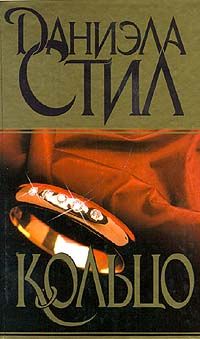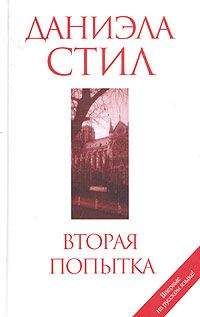Леонард Коэн - Любимая игра
Фантастическая удача: она сидела одна, – но нет, к ее столу шел мужчина, в каждой руке удерживая по чашке. Шелл встала забрать у него одну. У нее маленькие груди, мне нравится ее одежда, надеюсь, ей некуда идти, молился Бривман. Надеюсь, она просидит здесь всю ночь. Он оглядел кафетерий. На нее смотрели все.
Большим и указательным пальцами он сжал переносицу, уперев локти в стол – жест, который всегда считал фальшивым. По-боевому подтянутый штабной полковник посылает мальчиков, своих мальчиков, на самоубийственное задание, а потом мы видим его, закаленного списками потерь, и все секретарши ушли по домам, а он один со своими картами, утыканными булавками, и, может быть, монтаж с новобранцами, молодые лица – крупным планом.
Теперь он был уверен. За долгое время он впервые что-то узнал о себе. Он не хочет командовать никакими легионами. Не хочет стоять ни на каком мраморном балконе. Не хочет скакать вместе с Александром, быть малолетним королем. Не хочет обрушивать кулак на город, вести за собой евреев, иметь видения, любить толпу, носить на лбу метку, заглядывать в каждое зеркало, озеро, колесо, чтобы увидеть ее отражение. Ради бога, нет. Он хочет утешения. Он хочет, чтобы его утешили.
Он выхватил из стакана охапку салфеток, на одной в углу расписал остаток пасты в шариковой ручке и нацарапал девять стихотворений, уверенный, что, пока пишет, она не уйдет. Он рвал салфетки, вгрызаясь в них ручкой, и не мог прочитать три четверти записанного; ничего хорошего не получилось, но не в этом дело. Он запихал этот мусор в пиджак и встал. Амулетами он запасся.
– Простите, – сказал он мужчине, который был с ней, совсем не глядя в ее сторону.
– Да?
– Простите.
– Да?
Я, может, повторю это еще раз десять.
– Простите.
– Чем могу быть полезен? – слегка давая волю гневу. Акцент не американский.
– Можно я… я бы хотел поговорить с человеком, который с вами. – Его сердце билось так часто, что могло показаться, будто оно передает сигналы, – словно отсчет времени перед выпуском новостей.
Жестом открытой ладони мужчина дал разрешение.
– Я думаю, вы прекрасны.
– Спасибо.
Она не выговорила это – ее рот вылепил слова, а она смотрела на свои неловко сплетенные, точно у школьницы, руки на краю стола.
Потом он вышел, радуясь, что это кафетерий, и он уже оплатил счет. Он не знал, ни кто она, ни чем она занимается, но не сомневался, что, как бы там ни было, увидит ее вновь и познакомится с нею.
10
К концу пятого года брака Шелл завела любовника. Незадолго до этого она нашла новую работу. Она знала, что делает.
Разговоры с Гордоном оказались бесполезны. Для разговоров он был чрезмерно нетерпелив. Она хотела, чтобы они оба сходили к психиатру.
– Ну право, Шелл. – Он отечески улыбнулся, будто она подросток, с излишним энтузиазмом цитирующий «Рубайят»[88].
– Кроме шуток. Это покрывается страховкой.
– Мне не кажется, что это необходимо, – преуменьшил он, имея в виду, что ничего возмутительнее в жизни не слышал.
– А мне кажется.
– Я читал Симону де Бовуар[89], – произнес он с мягким юмором. – Я знаю, что этот мир к женщинам недобр.
– Я о нас говорю. Пожалуйста, поговори со мной. Давай не упустим эту ночь.
– Секундочку, дорогая. – Он знал, что в это самое мгновение она приглашает его на серьезное совещание. Он подозревал, что она устраивает ему такую вот очную ставку в последний раз. Он также знал, что внутри у него нет ничего, что можно было бы отправить на встречу с ней. – На самом деле, вряд ли ты можешь охарактеризовать нашу совместную жизнь как катастрофу.
– Я ничего не хочу характеризовать, я хочу…
– Мы вполне счастливы. – Печать его скромности лежала на квартире, на шкафу Шелл с платьями, на планах постройки второго этажа дома – они лежали на столе и ему не терпелось к ним вернуться.
– Тебе спасибо сказать?
– Это неподобающе. – Он давал ей понять, что сердит, говоря с легкой британской интонацией. – Попытаемся разобраться в механизме брака.
– Я тебя умоляю!
– Только не надо истерик. Ну же, Шелл, пора взрослеть. Брак меняется. Он не может вечно быть сплошь страстями и обещаниями…
Он никогда и не был. Но что толку это кричать? Он сам измыслил ранний ураган плоти и страстей, из которого они выросли. Он в это верил или хотел, чтобы поверила она. Этого обмана она ему никогда не простит.
– …то, что у нас есть сейчас, очень ценно…
Внезапно она расхотела идти к врачам, расхотела что-либо спасать. Она смотрела, как он говорит – с тем жутким пристальным вниманием, которое может превратить спящего рядом человека в чужака. Он чувствовал, будто говорит с ней очень издалека. В этой аудитории она – начинающий репортер. Слишком поздно для неторопливого супружеского бормотания или интимной тишины. Он знал, что она притворяется, будто он ее убедил, и был благодарен за притворство. Что еще она может сделать – зарыдать, дотла сжечь стены? Она была с ним в одной комнате.
Потом она сказала:
– Ну, где поставим перегородку? – и они склонились над чертежами дома, играя в дом.
Бривман часто представляет себе эту сцену. Шелл ему рассказала спустя год. Он видит, как они склонились над полированным столом, спиной к нему, а он – в углу старинной комнаты, смотрит на невероятные волосы, ожидая, когда она ответит на его взгляд, повернется, встанет, подойдет к нему, пока Гордон со своим острым карандашом трудится, набрасывая ванную, надругательство над детской. Она подходит, они шепчутся, она оглядывается, они уходят. А в некоторых версиях он говорит: «Шелл, сиди смирно, строй дом, будь уродиной». Но красота ее делает его эгоистом. Она должна подойти.
Когда она решила сменить работу, Гордон посчитал это хорошей идеей. Она была рада вернуться в университетскую атмосферу. Это возвращение по собственным следам, сказал Гордон. Она может восстановить связи. Еще одного дня в «Харперс Базар» Шелл бы просто не пережила. Смотреть на холодные тела, одежду.
Ее подруга пару дней в неделю работала волонтером во Всемирном доме студента, организуя чай для иностранных гостей, развешивая украшения, предъявляя будущим министрам черных республик Америку в ее улыбчивом великолепии. Она рассказала Шелл, что в отделе отдыха и развлечений есть вакансия. Друг семьи – директор и благотворитель организации, поэтому ее заявка и интервью оказались формальностями. Она перебралась в чудесный зеленый офис, украшенный репродукциями ЮНЕСКО, окна выходят на Риверсайд-парк – почти такой же вид, как у Бривмана, только пониже.
Она хорошо делала свою работу. Программа приглашения докладчиков, Программа воскресных обедов, Программа туров работали лучше, чем когда-либо. Она показала себя специалистом по организации. Люди ее слушали. Наверное, от такого красивого существа не ждали, что оно может говорить так разумно. Никто не хотел ее разочаровать. Успех ужасал ее. Может, в этом ее предназначение – не в любви, не в близости. Тем не менее, ей нравилось работать со студентами, встречаться с людьми своего возраста, которые строили планы и начинали карьеры. Она окунулась в весеннюю атмосферу, ловила себя на том, что строит планы сама.
Странно было то, как по-дружески была она расположена к Гордону. Строительство дома увлекало. Ее интересовала каждая деталь. Они наняли грузовик, чтобы забрать панели из старой загородной гостиницы, назначенной под снос. Гордону его работа виделась в дубовом окружении. В гостиной Шелл предложила оштукатурить одну стену, а остальные три оставить кирпичными. Ее интерес приводил ее в недоумение.
Потом она поняла, что уходит от него. Ее интерес был ровно таким, какой испытываешь к кузену, с которым вырос и которого долгое время предполагаешь не видеть. Изображаешь живой интерес к его семейным делам – некоторое время.
Переспав с Медом, она просто поставила подпись под запиской об уходе, которую писала почти год.
Он был приглашенный профессор из Ливана – замечательно красивый молодой мужчина, спец по этим вопросам; при интимных обстоятельствах он признавался приятелю, что постоянное соседство «желанных крошек» и привлекает его более всего в университетской жизни. Ростом больше шести футов, худой, черноволосый, осмотрительно настойчивый и уступчивый, черные глаза всегда слегка прищурены, словно он все время заглядывает за песчаные барханы – не найдется ли там для него какого-нибудь подвига. Такой бедуинский Т. Э. Лоренс[90], говорил с оксфордским акцентом и обладал театрально утонченными манерами. Всегда так откровенно клеит дамочек, так очарован собственным шармом и неоспоримо прекрасной внешностью, так увлечен своими склонностями, так фальшив, что совершенно обворожителен.
Шелл позволила ему три недели экстравагантно за ней ухаживать. Он был не в лучшей форме, поскольку считал ее действительно прекрасной, и совершенству его методов это вредило.