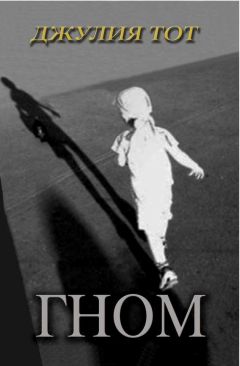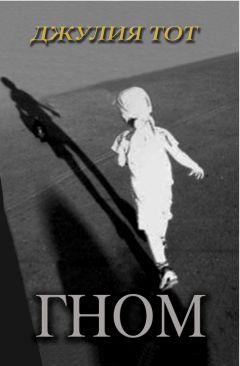Виктор Свен - Моль
Потом, попав в какой-то парк, он сел на скамью, бессильно бросив руки на колени. Да, конечно, он еще молод, но почему он чувствует себя дряхлым, ненужным, пережившим самого себя и лишним?
Решков вздрогнул, восстановив теперь уже давнюю картину, вернувшую его к годам крестьянского восстания в Тамбовской губернии, о котором сам Ленин говорил, что оно — для коммунизма — пострашнее всех фронтов гражданской войны. Именно поэтому Ленин с Дзержинским и приняли решение, чтобы самые лучшие отборные чекистские части были брошены на Антонова. У Ленина и Дзержинского другого выхода не было.
Вспомнив об этом, Решкову легко было представить себе тамбовскую крестьянку, озлобленное существо, взбесившееся от ненависти. Эта тамбовка, уже после разгрома крестьянского восстания в Тамбовской губернии, сделала то, что до нее никому не удавалось: она взорвала присланный из Москвы Особый Отдел, который должен был завершить «очистку» Тамбовщины от кулаков. Особый Отдел, разместившийся в лучшем кулацком доме села Отрепьевки, в первую же ночь взлетел на воздух.
Кулачку поймали. Она выдержала все допросы и не выдала ни одного из своих сообщников. Да, она созналась, но и полуживой, в беспамятстве твердила: «Я все сама, сволочи, всё сама… одна, вот этими руками»… И потому, что этому никто не верил, ее и не «пустили в расход» на месте, а доставили на Лубянку.
Когда и здесь допросы ни к чему не привели, террористкой заинтересовался Председатель.
Среди сопровождавших Председателя были Мохов, Суходолов и он сам, Леонид Николаевич Решков.
Когда они вошли в камеру, Решков думал увидеть подавленную, жалкую кулачку, у которой не было ничего другого, как только молить о пощаде. Но она, стоило лишь открыться двери, сорвалась с места и кинулась к Председателю.
— Гады! — завопила она. — Ставьте меня к стенке! Без задержки!
Конвоиры схватили ее за руки и оттащили в сторону.
— Пусти! — приказал Председатель. — Пускай баба выскажется.
Конвоиры выполнили распоряжение. Тамбовка упала на пол.
— Продолжай, — сказал Председатель. — Помитингуй!
Не поднимаясь с пола, она вздернула голову и закричала:
— Мне митинговать нечего! Это вы там, на митингах, открещиваетесь от загубленных мастеровых на Урале или наших мужиков тамбовских. Ну, тех, знаешь, антоновцев, которые в вашей правде не видели свою правду… или тех поручиков и гимназистов в белых погонах, что стояли поперек вашей дороги. Это вы митингуете о будущем счастье. А ты пойми: для матери и для батьки счастье не в том будущем, что обещают каратели, а вот тут, здесь, в теперешних, настоящих, живых детях, которых вы ставите к стенке. А по какому праву? У тебя есть мать? Есть, спрашиваю, мать? К ней ты пойди, перед ней устрой митинг и расскажи, как ты меня, тамбовскую мать троих уже поставленных к стенке сынов — меня тоже поставишь.
Тамбовка вдруг и до странности неожиданно замолчала. Словно израсходовав все свои силы, она медленно опускала голову и, наконец, прижалась к полу, как прижимается деревенская старуха к земле могилы дорогого покойника.
Председатель повернулся и направился к двери. Следом двинулись и остальные. Когда за ними с железным равнодушием щелкнул ключ, Решкову показалось, что с этой минуты тяжесть вины за всё творимое ляжет только на его совесть.
Это уже было новое, тревожное и, как казалось Решкову, явно мешающее жить сознание. Он пытался спрятаться за спины тех, кто приветствовал «музыку революции», но скоро догадался, что революции не нужны ни Печорины, ни Алеши Карамазовы.
Сам себя Решков не рискнул сравнивать с Печориным. Он просто отнес себя к жалким статистам, изображающим массу в современной и совершенно зря поставленной драме.
Драма началась не сегодня и закончится не завтра.
Мысль об этом заставляла Решкова определить свое место в драме, оценить каждый свой шаг и поступок. Оценка была до того бесстрастно жестокая, словно кто-то, со стороны пришедший, ковырялся в его душе, и так неосторожно, что хотелось стонать от боли.
Он не стонал. Криво усмехаясь, он убеждал самого себя, что в его душе ковыряется не кто-то, а он сам — Леонид Николаевич Решков, тот Решков, у которого нет желания сделать шаг куда-то в сторону. И не потому, что боязно, просто так, от лени или от потери любопытства. А может быть и потому, что душа его вконец ослепла и не могла видеть ни прошлого, ни будущего.
О настоящем он не хотел думать. Он отказывался от него, в испуге отодвигался и даже внушал самому себе, что настоящего у него нет. Так-таки совсем нет, и удивляться тут нечему.
«Настоящего ни у кого нет, — со злостью думал он. — Все мы топчемся меж тем, что было и что будет, и не замечаем, как и куда бежит время своей и чужой жизни».
Иногда злость сменялась тоской, очень напоминающей просьбу к кому-то в чем-то разобраться и что-то понять.
— Вот и я, — шептал он, — что я имею?
Действительно, у него ничего не было. Согнувшись под тяжестью свободы от всего, он шел в темноту своего будущего.
Тут Автор с полным основанием может сказать, что за этим движением Решкова следил его друг, Владимир Борисович Кулибин. Он записывал любую мелочь, иногда повторялся, но обнаружив повторение — не смущался: ему казалось, что он — хирург, готовящийся к сложной операции, которая позволит рассмотреть всё, происходящее в душе Решкова. Но Кулибин упускал из виду, что хирург равнодушен и далек от любви к тому, кто лежит на операционном столе.
Кулибин и жалел и любил своего истерзанного, безнадежно больного друга, теперь откровенно прибегающего к наркотикам: водка ему уже не помогала.
В один из дней, когда Решков заговорил о мучающих его предчувствиях, Кулибин воскликнул:
— Зачем вы, Леонид Николаевич, так упрямо думаете о какой-то бездне!?
— А вы знаете, Владимир Борисович, — ответил Решков, — она странная, эта бездна. Она не внизу, а где-то там, над моей головой. Остальное тоже странное. Вот я откидываюсь на спинку дивана, засыпаю, или только кажется мне, что сплю, но перед моими глазами плывут картины. Не только те, что повторяют мое прошлое, но и те, которые показывают, что должно случиться со мною. Вот и сейчас… вот я закрываю глаза, Владимир Борисович, и всё исчезает. И эта уютная квартира. И диван. И кому-то и когда-то принадлежавший богатый книжный шкаф с книгами, тоже кому-то и когда-то принадлежавшими. Исчезаете и вы, Владимир Борисович, — теперь уже глухо шептал Решков, — тухнет свет электрических ламп. Наступает зимняя ночь, и я вижу снежинки, растерянно вышмыгивающие из темноты, чтобы добраться вон туда, к очень далекому огню неизвестно кем и для чего зажженного костра. Я иду к этому костру. Иду, спотыкаясь. И я никогда не приду…
С искаженным лицом Решков упал на диван.
— Что с вами? — спросил Кулибин, и услышал просьбу пойти в соседнюю комнату, взять там со столика… Что «взять» — Кулибин знал, а когда вернулся, Решков сидел с уже завернутым рукавом рубахи.
Передав в дрожащие пальцы Решкова шприц, Кулибин опустил голову.
Да и что ему было делать, этому деликатному Владимиру Борисовичу Кулибину? Доброжелательный, чуткий, но бессильный, он не только не мог спасти Решкова, но даже и поддержать его, чтоб на какое-то время отодвинуть неизбежность крушения.
Отметив это, Автор считает нужным перейти к рассказу о том, что говорил —
Собеседник о партбилете и браунинге Ленина
— Записанные вами на страницах «Моли» терзания, ну, там, Кулибина, что ли, — сказал Собеседник, — они, не скрою, интересны. Как информация. Не забыли вы и прямо-таки детективный пассаж с каким-то билетиком Ленина, попавшим в руки бандита Ошалкина.
— Позвольте, — запротестовал Автор. — Нет, я не обижаюсь, что вы пустили в оборот словечко «информация». Пусть «информация». Но какая связь «информации» о Кулибине или Решкове с «информацией» о Ленине и его партийном билете?