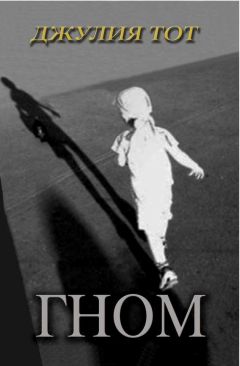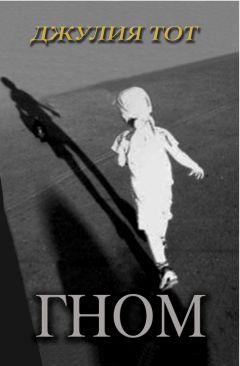Виктор Свен - Моль
— Пейте, — приглашал Решков. — Это хорошее вино. Я его привез из Парижа. Вы огорчались, что я пропал? Видите: не пропал. Я ездил туда с Моховым. Вы поднимаете брови и готовы спросить: зачем? Конечно, не за вином ездили. С деликатной миссией мы отправились в Париж. Как бы это позвучнее сказать?. Ну, да, чтобы там найти священные для Октября реликвии: партийный билет Владимира Ильича Ленина, некоторые его записные книжки, документы с подписью Ленина. Об этих ускользнувших реликвиях я вам — полунамеками — как-то говорил. А сегодня… Знаете, я живу с предчувствием, что скоро и навсегда с вами расстанусь. Так что сегодня я вам расскажу поподробнее. Если не расскажу теперь, то, может быть, никогда не расскажу. А всё это так необходимо для вашей, еще не написанной, книги.
— Да и будет ли она написана? — задумчиво прошептал Кулибин. — Если вам кажется что будет, то…
— Да, мне кажется, — возразил Решков. — И знаете, почему кажется? Это о вас Мохов такого мнения. Вы, — я повторю слова Мохова, — вы, Владимир Борисович, беспартийная сволочь. Вы переживете всё и всех. И живите! Делайте вашу книгу. И меня не забудьте. Не в добрых словах и не в молитве. Молитвы мне не помогут. Ну, тут уж я смеюсь. А вы живите… И поэтому…
Они чокнулись.
— Слушайте, — отставляя бокал, сказал Решков. — Вы должны помнить и о чекисте Атаманчике, и о многих других, и о знаменитом мстителе. Помните — Ошалкин? Его в двадцатом году расстреляли. Когда расстреливали царскую семью — этим Вождь не любовался. Когда расстреливали Ошалкина в подвале Лубянки — Вождь наблюдал через специально проделанное отверстие. Чувствуете разницу? Так вот — Ошалкин. В архивах чека — он под кличкой «Мститель». «Мститель» начался с мести за свою девушку, за Ольгу, выданную в руки чека известной на всю Москву блатной красавицей Тамарой, «Царицей Тамарой». Что с нею сталось, вы знаете. Но откуда вам знать, сколькими жизнями своих лучших агентов расплатилась чека за Ольгу? Ошалкин был неуловим. Он появлялся, как молния, и исчезал, оставляя после себя трупы и трупы. Лубянка дрожала перед Ошалкиным, как, в свое время, дрожала перед тамбовским Антоновым. Петерс, после захода солнца, не рисковал высунуться на улицу. И вот однажды, где-то в самом начале 1919 года, все отделения чека и все отборные части МУРа жили в напряжении: Ошалкин свирепствовал. Агенты чека и сотрудники МУРа, не успев появиться на каком-то углу Садового кольца, валились мертвыми. Так начал «священную войну» Ошалкин. Он проиграл эту войну. Но в этой войне, как и в любой другой, великолепно провел свою роль Его Величество Случай. Утверждают, ведь, что Наполеон важнейшую для своей судьбы битву упустил из-за банального насморка. Наполеон, видите ли, десять минут отмахивался от маршалов, на их просьбу двинуть в бой резервы гвардии отвечая визгливым чиханием в батистовые платочки, вышитые графиней Валевской. А вот в той войне, войне Ошалкина, Его Величество Случай, подбрасывал Ошалкину десять минут, могущих перечеркнуть «Десять дней, которые потрясли мир». Эпизод? Предположим. Но развивайсь по законам логики, о нем, об этом эпизоде, говорил бы весь мир, и этот эпизод вписали бы в историю России, как вписали Ивана Сусанина. Нет, нет! — воскликнул Решков. — Я согласен с вами, Владимир Борисович, что аналогия «Сусанин — Ошалкин» несколько неудачная. Но, без шуток, воспользуйся Ошалкин «десятью минутами», и в каком-то будущем могла бы появиться опера «Ошалкин», отодвигая в тень устаревшего «Ивана Сусанина».
— Да! С чего я начал? С этого французского вина, которым вас угощаю. Вино — из Парижа. Но не за вином я ездил туда с Моховым. По другому и важному делу, связанному с той войной Ошалкина. С проигранной им войной. Ошалкин, как я говорил, закончил свою карьеру в подвале Лубянки, в 1920 году. А вот военные трофеи, попавшие в руки Ошалкина, очутились в Париже. Почему? Ошалкин их передал своему младшему брату, хорошему пареньку, не имевшему никакого отношения к бандитским делам. Мне даже кажется, — добавил Решков, — что этот мальчик, так же как и девушка Ольга, не подозревал, чем занимается старший Ошалкин. Младший — любил старшего, и выполнил данную клятву: никому и никогда не передавать документы с подписями Ленина, партийный билет Ленина и еще какие-то бумаги, захваченные «старшим» во время «священной войны» января-февраля 1919 года. Все — или почти все — «ленинские реликвии» перекочевали в Париж, куда я ездил и откуда привез вот это вино.
Кулибин внимательно следил за скачущей, не особенно связной, речью Решкова. Отрывочная и запутанная — воспринималась она занятной импровизацией, строчками, выхваченными из увлекательной новеллы.
— Я слушаю вас, Леонид Николаевич, — сказал Кулибин, — и теряюсь. Иногда мне кажется, что я вас отлично понимаю, притом… Простите: это не мистификация? Не простое желание посмотреть на человека, оглушенного перечнем маловероятных событий, чтобы затем улыбнуться над наивным слушателем?
Решков, видимо, не расслышал или не понял, о чем его спрашивают. Скользнув взглядом по лицу Кулибина, он продолжал говорить, совсем не интересуясь своим гостем. Казалось даже, что он беседует с самим собой.
— Ну, да, — каким-то отсутствующим голосом продолжал Решков, — вспоминается тот, который подвернулся однажды… и рассказывал мне, что он был в личной охране Ленина. Да. Он не нужен был мне, этот воняющий самогонным перегаром сукин сын, противный как блевотина на пороге. Я всё же мигнул ему, садись, значит, рядом. Было это в кабачке. Он сел, а я ему: «Пей, сколько хочешь». И опять подмигнул. Подмигнул, и рассмеялся. А смеялся… чтобы самому спрятаться за чужим падением, за чужой бедой. «Пей, — говорил я ему, — сколько хочешь пей». Хоть и совсем ясно было, что ему не водка нужна, а обыкновенный, самый простой, кусок хлеба. Хлеба я ему не дал. А у пьяного — я узнал всё, всё выведал, все самомалейшие детали того эпизода с Лениным узнал. Ну, а потом… что ж потом? Да, пьяницу того ликвидировали. А сам я… У меня после того не раз наступали минуты сожаления о своей не сложившейся жизни, что ли, а может быть — и тоска о том, почему меня забывают ликвидировать? Ведь я тоже многое знаю. Многое, — повторил Решков, взглянув на Кулибина обыкновенными, зрячими глазами. — Понимаете, Владимир Борисович, многое знаю. И чтоб оно не пропало, я и тороплюсь рассказать вам, Владимир Борисович, для вашей, еще не написанной, книга. Мне самому… Вот вы уйдете, а я лягу… Такое бывает… Лягу, закрою глаза, и сам себя успокаиваю, что меня уже нет. А сердце бьется. Знаете, как у того, кто затаился и чувствует: идут по его следу. И что самое страшное: чувствует, чувствует этот с бьющимся сердцем, что не кто-то идет по его следу, а он сам крадется по следам своей жизни, чтобы, в конце концов, схватиться холодеющими пальцами за пистолет. Часто, очень часто я лежал так, с закрытыми глазами, ожидая воображаемого прихода самого себя. Я принимался считать от единицы. Когда доходил до тысячи, думал, что вроде бы уже пора. И никто не появлялся. Ожидание прихода было таким нудным, что я не выдерживал, опускался на четвереньки и поднимал лицо к чужому и совсем черному потолку, который люди почему-то называют небом.
Решков остановился и в недоумении спросил:
— К чему это я? Ах, да. Чтобы для вас, Владимир Борисович, восстановить тот эпизод января или февраля 1919 года, который мог бы повернуть историю России в другую сторону. Мог бы. Понимаете: мог бы! Этот поворот был в руках бандита Ошалкина. Какая проза, вы можете воскликнуть, и спросить, для чего она в сладеньком потоке легенд? Для сдирания сусального золота с октябрьского иконостаса, в центре которого Ленин? Новая религия. «Приидите поклонимся и припадем…» Кто против? Представьте себе: бандит Ошалкин. Почему? Потому, что муровские опричники схватили и уничтожили его девушку Ольгу. Любовь? Об этом могли бы рассказать Шекспир или Достоевский. Я — что? Я вам подбрасываю материал, заметку нужную для вашей будущей книги, эпизод, в который легко вплести блоковскую снежную вьюгу и «революцьённый держите шаг». «Революцьённый шаг» — лирика… или мифология. А тут… По снежным улицам Москвы двигался автомобиль, окруженный конвоем преданных, испытанных чекистов, китайцев, латышей, среди которых был и тот… о котором я вам только что говорил. Ну, тот — потом голодный, которому я вместо хлеба наливал водку, чтобы услышать его исповедь… Да… В автомобиле сидел Ленин. Владимир Ильич. Он улыбался, предвкушая бурю аплодисментов после речи, которую через полчаса произнесет на каком-то историческом заседании. Но в эти минуты ни Ленин, ни его ученики, ни его конвой не знали, что где-то рядом, на соседних улицах, бушует Ошалкин. Ночь, московская снежная ночь висела над столицей. Ночь — только для чекистских отрядов и муровских патрулей. Москва, ведь, на военном положении. С шести вечера — обычная Москва обязана сидеть по своим темным, без света, углам. Для Ошалкина — законы не писаны! Он — не нуждается в пропусках. Он ведет войну. А на войне — как на войне: всё решает пуля. У Ошалкина радостно вздрагивает сердце: вон он — вдали — окруженный конвоем автомобиль. Свист. Сигнал. И отряд Ошалкина бросается наперерез, останавливает машину. Охранников — как ветром сдуло. В автомобиле несколько трясущихся, охваченных ужасом, человек. Выглядят они жалко. А где-то в стороне, в переулке, горячая стрельба. Там действуют ошалкинские ребята, загнавшие в темный двор чекистско-муровский отряд.