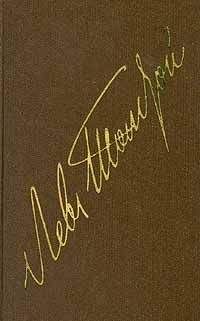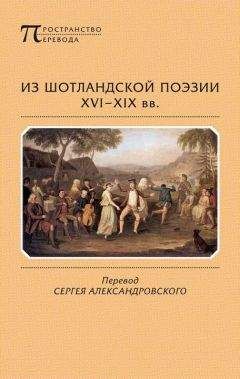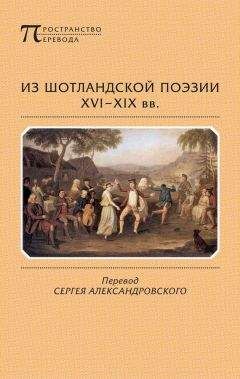Евгения Берлина - Чужой Бог
И чувство, что она медленно переступает тот порог сознания, за которым начинается другое сознание, много горше и плотнее во времени, к которому тоже и обязательно надо было привыкать, уже не покидало её.
Родные всерьёз начали опасаться за её рассудок.
* * *Вадим тянул с визитом в дом Лены. От Анны он знал, что Лена вернулась в каком-то странном, лихорадочном состоянии, о нем не спрашивает.
Лицо Лены, расплывающееся, как будто смазанное бледно-розовой краской, часто мысленно появлялось перед ним, вернее, он сам вызывал его в своём воображении, и был жесток, издевался над ней, расспрашивал, больно ли делать аборт и отчего все знают о том, что у них мог быть ребёнок, отчего она проболталась, дура…
Он знал, что подобные случаи все ребята и девчонки скрывают, и людям надо, чтобы всё это скрывалось. А такие, как Лена, не умеющие скрывать, становятся посмешищем или жертвами, скорбным примером для благополучных людей. Он же не хотел быть ни тем, ни другим.
Только попав в эту неловкую для себя ситуацию, Вадим почувствовал острее, чем когда-либо, свою принадлежность к обществу, он боялся осуждения Ильи Михайловича, окружающих его теперь людей. Когда он рассказал об этом случае на работе — конечно, как бы не о себе, — ему только посочувствовали, советовали заплатить девушке за пережитые страдания.
Когда он думал о том, что будет говорить с Леной, то представлял себе не маленькую детскую с попугайчиками и игрушками, а полутёмную столовую, когда горит только лампа торшера и тени ползут по стенам — и можно быть резким, насмешливым, настоящим мужчиной, чтобы она навсегда поняла, что между ними ничего не произошло, потому что их близость всегда была «публичной», без любви, тайны, и разом отторгнуть всё.
Но что-то удерживало его от такого поступка, мешало, и он тянул, как будто сначала надо было понять важное или вспомнить, и не получалось этого.
В минуты таких раздумий Вадим был неузнаваем — удивительно некрасив.
* * *Казалось, Вадим начал страдать, и более всего не от того, что произошло с Леной, а от незнания, как поступить дальше, как вести себя. Страдание его напоминало потухающую страсть.
«Я не выхода ищу из ситуации, мне не надо искать…» — думал он.
По-видимому, он достиг того душевного предела, за который не смог перейти, и в то же время соблазн думать о возможности быть другим, добрым и великодушным, был велик.
Уверенный, что дело не в том, как он поступит, что скажет или подумает о нем Лена, а в мнении других людей, которые видят его жизнь, он считал единственным препятствием продолжения своей прежней, спокойной жизни участие множества людей в Лениной судьбе.
Решившись пригласить Грапского в свою маленькую комнату, снятую на верхнем этаже старого дома на Садово-Триумфальной улице, он преследовал одну цель: понять, какой он в восприятии других людей, догадаться, в какой степени допущен он в новое общество и как можно избежать опасности быть отторгнутым этим обществом.
Он устроил настоящий пир для Грапского, купил итальянский ликёр, сыр, пирожные, одолжил у квартирной хозяйки, тихой пьяницы, щербатые чашки с блюдцами, закатал и спрятал своё дешёвенькое белье и одеяло, а чтобы комната выглядела нарядной, набросил, где возможно, куски яркого шелка, купленного в немецком магазине. Пёстро-синий, клетчатый ало-жёлтый цвета сразу оттеснили на второй план блеклые краски городского заката.
Коммерческий директор СП «Факел» Игорь Грапский был ещё молод, лет тридцати, называл себя, когда представлялся, господином Грапским. К Вадиму он пошёл по нескольким причинам: во-первых, ему был нужен помощник, Вадим подходил для этой должности, и надо было приглядеться к нему. Во-вторых, Грапский уже испытывал потребность поучать и делиться впечатлениями жизни. Третья причина был вовсе банальна: он не мог пригласить к себе в дом Вадима, потому что не хотел, чтобы мальчишка видел, как богато живёт сейчас Грапский.
Сначала Вадим стеснялся, молчал, только наливал ликёр, грел чайник на кухне и всё готовился начать разговор.
Грапский, скучая в пустой комнате, где не было ни книг, ни оригинальных вещиц, сам сказал назидательно:
— Ты, господин Бахметьев, остановился во всём, о будущем не думаешь, Илье Михайловичу так нагадил (Вадим уже рассказал ему о Лене). Хочешь, женись, Илья Михайлович какое-никакое приданое соберёт, хотя бы на квартиру найдёт деньжат, на машину.
Вадим не ожидал, что они будут говорить об этом.
— Невозможно, — резко сказал он. — Там любви нет, там всё назло.
Грапский тихо засмеялся.
— У женщин всегда назло, ты не понимаешь, — весело сказал он.
Вадим подумал почему-то об Анне.
— Нет, я не хочу, — торопливо сказал он.
Казалось, Грапский разочарован. Он взял осторожно кусочек сыра, пожевал и насмешливо произнёс:
— Что же ты связался с ней? Она несовершеннолетняя.
Слова его и манера общаться более всего были близки к воровскому жаргону, блатным манерам, но это теперь общепринято среди людей делового мира.
— Да сама навязалась, — в тон Грапскому сказал Вадим.
Тот опять засмеялся и со скукой подумал: «Слишком прост для меня».
— И ты её, как там у вас, молодых, говорят, взял и поимел, — с едва заметной брезгливостью сказал Грапский.
«Как же возможно так говорить ему, — думал Вадим. — Да, у настоящих людей, которые реально смотрят на жизнь, и отношение к ней жестокое, они-то, люди эти, только и нужны сейчас».
— Ты, Вадим, будешь жить в новом мире, — назидательно продолжал Грапский, даже с некоторой долей патетики. — А значит, должен уметь, когда надо, отказаться от удовольствий плотских и от мучений, которые написаны на твоей физиономии сейчас. На лице нового человека должна быть всегда улыбка, этакое благополучие, потому что с несчастным никто дела вести не захочет, а захочет подчинить или высмеять. В человеке это крепко сидит — желание унизить ближнего своего.
«Точно, прав Грапский, надо уметь отказаться», — это была его мысль, высказанная Грапским как напоминание.
Между тем стало темно, в комнате делать было нечего. Они вышли на улицу и ещё долго гуляли по Москве. Грапский рассказывал о родной Украине, о нищей юности.
«Но я был другим, чем он, — расслабленно думал Грапский. — Я был добр и сентиментален, во что-то верил, боялся быть плохим…»
Вадим думал о том, как жалко ему себя, своей прошлой жизни и как страшно думать, что у него уже мог быть ребёнок, ненужный, чужой, крикливый. И действительно надо принять всё, что произошло у него с Леной, как свой грех, чтобы не делать больше ошибок.
Он внезапно почувствовал облегчение, и часто теперь повторяемая мысль о том, «как же возможно было допустить, и надо было всё иначе», сразу исчезла.
Прощаясь, он за что-то благодарил Грапского и с благодарностью слушал его слова:
— Ты учись у Ильи Михайловича, он толковый бухгалтер, всё у него возьми, а потом, может быть, я тебя к себе переведу. Я подумаю, может быть.
Наутро Вадим уже смог заставить себя пойти в дом Лены.
* * *Домашним Лена казалась очень больной: у неё теперь были сонные, потухшие глаза, она волновалась и плакала по каждой незначительной причине. Но сама Лена, конечно, была уверена, что совершенно здорова и все придумывают её болезнь.
Все теперь как будто наперёд знали, как вести себя с ней, и их жалость, смешанная с пренебрежением, была для неё настоящим испытанием.
Лишившись ребёнка и узнав презрение окружающих, Лена поняла, что бороться не с кем и бессмысленно. Осознание того, что она сама хотела этого зла и жила очень долго с желанием зла окружающим, было неожиданным и принесло такие страдания, которые были слишком велики, несоразмерны с тем, что могла принять шестнадцатилетняя девочка, — и болезнь её прогрессировала.
Теперь её увлекала мысль о другой реальности, в которой она могла бы жить легко. Привычная соразмерность жизни, её относительная гармония нарушились, и выход она искала только в самой себе — вне людей, и именно поэтому её влекло в пустоту и детскость другого сознания, в полуосознанные чувственные воспоминания того, что не происходило с ней.
«И хорошо, что сравнивать нельзя», — думала она на упрёки матери в том, что Лена опять «не как все».
Казалось, её воспалённый мозг и изболевшееся, униженное тело готовились к чему-то: Лена не смогла бы объяснить, что же именно должно было с ней случиться, но то, что будет с ней, казалось обязательным.
Лена стала очень красива, напряжённая внутренняя жизнь утончила черты её лица, движения стали более женственными.
К появлению Вадима она отнеслась безучастно. Они долго сидели рядом на диване, он взял её руку, безвольно опущенную, рассказывал об удачной поездке в Казахстан, где фирма купила дешёвые запчасти, и смотрел на её красивое лицо с нарастающим чувством вины.