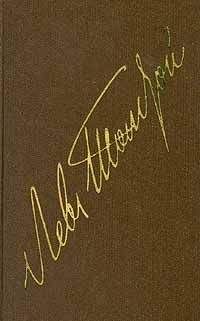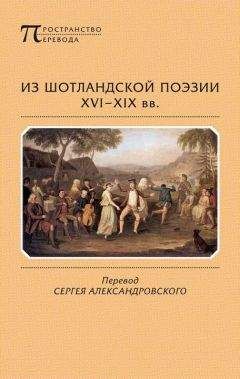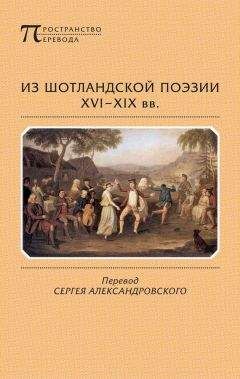Евгения Берлина - Чужой Бог
С Леной даже не стали разговаривать, как будто боялись, избегали объяснений (чему она была рада), ей даже не позволили сесть. Просто Елена Леонидовна, всё также брезгливо поджимая губы и не смотря на дочь, медленно произнесла:
— Ты сделаешь аборт в больнице Ирины Семёновны, она проследит, чтобы все сделали хорошо, мы оплатим. Потом ты уедешь на время в Тулу к Анне, поживёшь у родни. Об аттестате позаботится отец. И не возражай! — Она перешла на крик, стала истерически плакать.
Анна с любопытством смотрела на Лену, Ирина Семёновна изображала строгость на круглом лице.
«Она уже порочна, — думал Илья Михайлович. — Для неё действительно нет запретов».
В мыслях этих он находил сейчас удовольствие. Любя по-своему Лену, он всё-таки хотел унизить её, чтобы оправдаться перед собой в том, что в душе давно уже отказался от неё и не хотел отвечать за её душу.
И как никто другой в этой комнате, он понимал, что это должно было случиться с ней, потому что он давно отказался от неё.
Елена Леонидовна кричала, уже не помня себя:
— Проститутка, ещё школу не закончила! И Лена, как будто защищаясь, подняла руки, вытянув их перед собой.
Её детские, тонкие руки оказались под светом торшера, и все в комнате увидели, что на пальце блестит дешёвое обручальное кольцо.
Стало очень тихо. Они поняли. И мать, опустив голову, сказала:
— Иди, отдыхай, иди к себе.
* * *В больницу её никто не провожал. Сначала хотела Анна, потом, усмехнувшись, сказала, что ей надо закончить рисунок, и белый цвет больницы её раздражает. Елена Леонидовна была на работе.
Лена поехала одна с большой сумкой, которую в приёмном покое отобрали.
Она была готова к унижению, к новому страданию. Но не к обыденности совершаемого здесь.
Ей надо было всё время чувствовать, что кто-то ещё любит её, кому-то она нужна. Вадиму она ничего не сказала, а из каждого телефона-автомата на улицах звонила то одноклассницам, то приятельницам по летнему отдыху.
И всегда в трубке раздавались радостные восклицания, спрашивали, как дела, а она отвечала, что всё хорошо, только она болеет, но скоро опять позвонит, и отчего-то всех просила, чтобы её не забывали.
Операцию ей назначили на другой день, и весь вечер женщины в палате болтали, весело пугая друг друга. Из четверых — две были из общежития, они смеялись, одна говорила:
— За Ваньку и пострадать не жалко, хороший дружок.
Утром, после бессонной ночи, когда Лена, опустошённая, уже отказавшаяся от возможности и права любить того маленького ребёнка, который мог бы у неё родиться, увидела вокруг себя нескольких врачей и среди них — улыбающуюся Ирину Семёновну, она подумала: «Вот, пришли за ним», и потеряла сознание.
* * *Вадим узнал всё от Анны. Он пришёл, как обычно, в семь часов вечера с конфетами к чаю, но в доме было особенно тихо, как будто ожидали чего-то.
И это ожидание не могло относиться к любому конкретному человеку.
Анна попросила его:
— Посидите со мной, а то все ушли. Вадим молчал. Он понял, что она должна сказать важное и вопросов задавать не к чему. А то, что ей очень хочется сказать что-то, он понял сразу, как вошёл в столовую.
Анна нравилась ему: лицо с матовой кожей, большие влажные глаза, всегда немного расширенные, томность сочеталась в ней с вызывающим поведением, даже манерничаньем. Нравилась и подчёркнутая независимость.
— Из-за вас все волнуются, — с вызовом сказала она.
— Почему же из-за меня? — спросил Вадим.
— Вы что же, шут? — говорила она, обходя вокруг него, стоящего посредине комнаты. — Вы не праведник, вы в Бога не можете верить, вы в деньги хотите верить. А зачем соблазняете молоденьких девочек?
Вадим вздрогнул. Он понял, что с Леной что-то случилось.
— Она жива? — шёпотом спросил он.
Анна, молчала, всё так же обходя ещё раз вокруг него.
— Жи-ва, — наконец протянула она. — Да что вы спрашиваете? Вы ведь не любите её.
Он опять молчал.
— Вот видите, это правда, — торжествующе сказала Анна. — Вы потому разрешили ей всё это проделать: с чужой комнатой, раздеванием, с выдуманным ею страшным ГРЕХОМ (она мне рассказала), потому что вы хотели испытать себя. Всё ли вы можете, даже девочек не пощадите?
— Врёте, — закричал он. — Вы всё лжёте, притворяетесь. Вы всё выдумываете.
Анна театрально провела рукой, чуть не касаясь его лица:
— Ну уж нет, маэстро шут, ребёночек-то был живой. Ваш, Вадик, с нею ребёночек. А сейчас она пошла избавляться.
Он, испугавшись, схватил руку Анны, мелькавшую перед ним, закричал, подчиняясь первому чувству:
— Идёмте, скорее идёмте к ней.
Анна, отойдя на несколько шагов, прищурив глаза, рассматривала его, как художник ожившую картину:
— И любовник хорош, такая лапочка.
Обида, жалость к Лене, собственная беспомощность — все эти чувства мешали ему дышать, он прошептал:
— Ты пойдёшь, я заставлю тебя.
Она хмыкнула. Что-то хищное и жестокое, подчиняющее себе, ещё не проявленное в поступке появилось в её лице. Она быстро прошла в прихожую, оделась, уже оттуда крикнула ему:
— Торопись, что же ты. Пойдём.
И он, только что в оцепенении стоявший посреди комнаты, заставил себя идти за ней, уже зная, куда они идут сейчас.
* * *Они молчали, пока ехали в автобусе, потом на метро, он только удивлялся тому, что знает эти улицы и дома.
Анна привела его в ту самую квартиру, где они встречались с Леной, у неё был даже Ленин ключ.
Вадим вошёл, но оставался в коридоре, стоял, не снимая пальто. Анна вернулась из комнаты уже раздетая, в лёгкой блузке.
Она взяла его руку и положила себе на грудь.
— И ты можешь? — шёпотом спросил он. — Сегодня, в этот день?
— Да, — сказала она с вызовом — Отчего же? Ведь ты не любишь её. И не любишь меня.
Она говорила всё это, раздевая его, как маленького, сняла пальто, шарф, приблизила к нему своё лицо.
— Ты, Вадик, уже никого не можешь любить, акромя себя. Бедненький ты мой, — шептала она с усмешкой. — Оттого и испугался, что не знаешь, как влюблённые на такие новости отвечают.
Всю ночь и утро — пока Лена мучалась, пока её успокаивали, делали операцию, везли в палату — Анна и Вадим были вместе.
* * *Только однажды он как будто очнулся от дурного сна и, морща лицо, делая над собой усилие, подумал, отчего же там, в ресторане, и в этой комнате всё кажется ему безжизненным — как будто наполненным светом, но неживым.
«А, правильно, мы все раздвоенные люди, одна частичка лица, тела — человеческая, обычная, другая — уродливая, уничтожающая красоту и гармонию. Упадёт искусственный свет — и корёжит, уродует. Одна частица человека уничтожает его же — другую, живую».
Вадим ещё не понимал, что произошло в его душе, отчего он многое теперь видит по-другому, чем раньше.
И спасения было ждать не от кого.
Часть 4
Лену привезли домой из больницы, никто не замечал, что глаза её светятся нездоровым блеском, что она часто, с кажущейся бессмысленностью повторяет слова и живёт, как ребёнок, движением этих слов.
Она ходила целыми днями по комнатам в тёмном халатике и при звуке чужих шагов, голосов пряталась в свою комнату, за шкафчик с игрушками младшей сестры, подолгу сидела рядом с клеткой, где прыгали зеленые попугайчики — то стремясь друг к дружке, то забиваясь каждый в свой угол клетки.
Илья Михайлович, сделав несколько попыток заговорить с дочерью, понял, что именно его она больше всех избегает и боится.
Дома перед ней постоянно были яркие свитера матери, изящные чёрные одежды тётки, и их голоса говорили всё время о женском мире, где всё направлено на то, чтобы нравиться, и слова их были то круглые и мягкие, то резкие, угловатые, как крики птиц.
«Они хотят, чтобы их непременно любили, восхищались ими, — думала Лена. — И мне так надо».
Поставив знак равенства между собой и другими женщинами, она успокаивалась на время, потому что ей помогало их знание жизни.
Но охотно Лена разговаривала только с младшей сестрой, даже искала причины, чтобы подольше быть с нею.
Ещё в больнице после операции, в ту ночь, когда боль была постоянным напоминанием того, что произошло с ней, она спрашивала себя с испугом:
«Но ты ведь хотела быть сильной, беспощадной, как все, чего же ты?»
Ответа она не могла найти, она не думала никогда раньше, что можно так просто стать убийцей ребёнка, жизнью которого ей кем-то поручено было распоряжаться. И оттого она с болезненным любопытством смотрела на сестру — тоже ещё ребёнка, и думала о ребёнке, который мог родиться.
И чувство, что она медленно переступает тот порог сознания, за которым начинается другое сознание, много горше и плотнее во времени, к которому тоже и обязательно надо было привыкать, уже не покидало её.