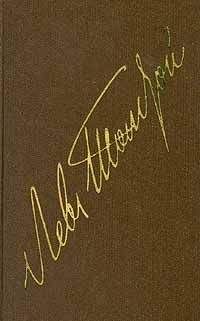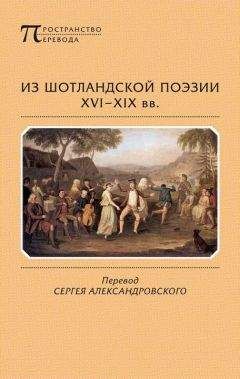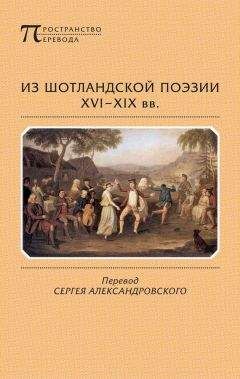Евгения Берлина - Чужой Бог
«Где спасение от этих ненужных чувств? — думал он иногда в отчаянии. — Ведь можно и так, и эдак повернуть и быть правым. Я нелюбим, мне отказано даже в дружбе, зачем же думать о ней? Я обо всех, дурак, думаю. Просто любить надо меньше».
Он вспомнил о Саше и со злобой решил, что и его, и смешных хиппи с их маечками мало что связывает с другими людьми, ведь они даже добро делают в общем-то не конкретным людям, своим близким, а человечеству вообще.
«Кидают кость всему человечеству — нате, кушайте, да восхищайтесь нами, какие мы прекрасные, добрые люди, — с иронией думал Вадим. — А вот с каждым отдельно — сложно, это не водички дать страждущему, которого никогда не увидишь больше, не ребёнка незнакомого погладить…»
Вадим даже повторил несколько раз понравившуюся фразу:
— Любить надо меньше, вот выход.
* * *Вадим с Ильёй Михайловичем побывали в нескольких моргах на опознании, в больницах, у знакомых. Лены нигде не было.
— Она больна, — затравленно повторял Илья Михайлович. — Она ушла ночью, как все безумные делают.
— Не говорите, что она больна, — зло сказал Вадим, хотя отлично знал, что это правда. — Я найду её.
— Ты, уличный мальчишка, ничтожество, что ты можешь? Я подобрал тебя, чтобы ты убил мою дочь, — прошептал Илья Михайлович.
Вадим ушёл от него и стал один ходить по улицам, заглядывая в подвалы и подворотни.
«Куда может пойти больная девушка, перед которой, наверное, постоянно край чёрной бездны? И надо удержаться, не упасть, и на это усилие тратится много жизни», — думал он.
Дальше мысль его упиралась в непреодолимое препятствие, потому что тонко чувствовать Вадим не умел, мозг его как будто лишался гибкости.
«Но, если она ещё слаба, значит, она где-то в центре города, недалеко от дома, — наконец решил он. — Я найду».
Побывав в нескольких подвалах, на чердаках, на бульварах, он пришёл в квартиру на Арбате, где недавно была Лена.
Ему сказали, что видели здесь измождённую девушку в сером пальто, с сухим блеском в глазах, она только что ушла, всех благодарила и даже заплакала.
В одной из комнат этой заброшенной квартиры он неожиданно заметил знакомую фигуру: Саша склонился над бомжихой, избитой кем-то.
— Её в больницу надо, я знаю, куда, — говорил тихо Саша. — Берите осторожно и несите. Она ещё поживёт, бедолага.
— А зачем? — спросил, подходя к нему, Вадим. — Смрадная, мерзкая баба. Добреньким хочешь казаться для всех? А я вот не хочу.
Саша повернулся и очень удивился, увидев Вадима.
— Ты — здесь? — спросил он. — Ночуешь? Вадим уже не мог остановиться. Оказавшись здесь после чудесного мира, в котором начал жить, стоящий здесь в своей дорогой одежде, особых ботинках, он ощутил весь ужас мира иного, в котором мог оказаться, если бы не удача, — и от своего страха был особенно беспощаден.
— Мёртвые они здесь все, — заорал он. — Дышат, а мертвечиной за километр воняет.
Саша как будто смутился.
— Почему они-то мёртвые? — тихо спросил он. — А ты живой?
— Я-то живой, живой, — язвительно ответил Вадим.
Ярость, презрение настолько корёжили его, что он, повторяя:
— Я-то живой, веришь? — неожиданно ударил Сашу по лицу, и сам ожидал удара в ответ, чтобы бить, бить всех этих мечтателей, уродов, как будто защищая от них свой новый мир.
Но Саша не ответил ему ничем. Он опустил голову и пошёл вслед за ребятами, осторожно несущими больную бомжиху.
Вадим постоял в пустой комнате — постояльцы разошлись кто куда.
Он вышел на улицу, день был пасмурный, туманный, солнце с утра так и не пробилось.
Вадим медленно шёл по старому Арбату, потом, выйдя на Гоголевский бульвар, пошёл по нему, вдыхая сырой, но ещё свежий, пахнущий немного бензином и машинной гарью московский воздух.
На бульваре девушка в сером пальто медленно шла по боковой аллее и время от времени взмахивала руками, как будто молилась или репетировала пьесу. Волосы её были растрёпаны, пальто измято, как будто она провела ночь в случайном убежище, а не дома.
Вадим сначала прошёл мимо, во власти своих новых мыслей, с брезгливой, презрительной гримасой отвернулся от девушки, вид которой так отвечал его жестоким мыслям, и лишь позднее резко остановился. Он узнал, он не мог не узнать её.
— Лена, — тихо позвал он, повернувшись. — Леночка, иди ко мне.
Лена попятилась от него и, испуганная, побежала прочь.
* * *На рассвете вернулся домой Илья Михайлович. Большую часть ночи проходив по городу, мучимый страхом не только за Ленину жизнь, но и за свою собственную, он невольно думал о смерти.
Реальность смерти в ночном пустынном городе, грязном, отяжелевшем, где ещё оставались невнятными звуками крики многочисленных торговцев, размахивающих, трясущих в руках яркие одежды, тихих разговоров-соревнований, разговоров-сравнений дам в модных пальто, деловых людей с энергичными липами, — возможность смерти в таком жестоком мире он воспринимал со всё возрастающим страхом.
И мысль о том, что где-то в этом огромном пространстве бродит его Лена, уже не могла быть ясно осознана, иначе он бы не выдержал.
От постоянного страха эта мысль претерпела странную метаморфозу: он начал думать, что с Леной, маленькой озлобленной женщиной, ничего не может случиться, потому что она заодно с этим преступным, потерявшим управление городом, где слишком много желания власти и нелюбви, — он иногда как будто забывал, что она больна и беззащитна.
И когда он так думал, он жалел себя — и мог жить дальше.
Иногда, на вокзалах, в переходах метро, вглядываясь в лица опустившихся людей, он стыдился того, что дурно думает о дочери, и в оправдание он говорил себе, что это не он так дурно думает о Лене — это она ушла, чтобы отомстить ему.
И наконец мысль о том, что Лена мстит именно ему, окончательно овладела бедным Ильёй Михайловичем: и долгая пустая ночь, и её аборт, её болезнь — всё это теперь на нем, он один отвечает перед знакомыми, друзьями, родными, перед испуганной, ничего не понимающей Аллочкой… он один…
Илья Михайлович подумал: «Один перед Богом? Вселенной? Вечным разумом?» и захохотал.
Он стоял в эту минуту возле Казанского вокзала, прислонившись спиной к красному кирпичу стены ЦДКЖ, лицо его случайно оказалось рядом с весёлым лицом артиста на большой афише, их пародийное сходство было так сильно, что казалось: Илья Михайлович — в зале, вокруг публика, в чёрной ночи кругом прячутся люди, остро, с любопытством следящие за его страданиями, а сил играть уже нет.
«Мне ли бояться суда человеческого? — думал он. — Какой закон жизни я нарушил? Это они пришли и всё разрушили…»
Он не смог бы точно сказать, кто же это — они, люди другого времени, но у них была теперь сила, этот город, власть, и в насторожённой тишине ночи он чувствовал себя беспомощным.
* * *В это утро дом Ильи Михайловича напоминал о времени приготовления к празднику. Накрывали стол, а так как ждали и Лену, и Илью Михайловича, и Вадима, и ещё нескольких знакомых, отправившихся на поиски, то накрывали не как к завтраку, а, скорее, к обеду — с закусками, жареным мясом и отварным картофелем.
Торопливые приготовления помогали не думать постоянно о Лене, но между Еленой Леонидовной и Анной было решено, что за стол сядут, только если станет известно, что с Леной.
Они говорили друг другу, что Лену обязательно найдут, наверное, она в больнице, и утром к ней надо поехать с бельём и передачей.
* * *Елена Леонидовна догадывалась об отношениях Вадима и Анны, но сестру свою не винила: Лена была ещё таким ребёнком, что всё, происшедшее с ней, только раздражало Елену Леонидовну.
Её старшая дочь всегда избегала откровенных разговоров с матерью, и это Елена Леонидовна объясняла только запоздалым детством, а не стыдом: ни сама Елена Леонидовна, ни Анна не стеснялись говорить откровенно друг с другом, даже маленькая Алла всё рассказывала матери.
«Взрослые отношения сложны, полны тайн, скрытого соревнования, — думала она. — Разве Лена, открытая, ранимая, может понять это? И не поймёт никогда. Ей неизвестно будет это сладкое чувство власти слабого существа, женщины, над очень сильным, казалось бы, мужчиной».
Даже сейчас она насмешливо улыбнулась — тревога за дочь не была глубока.
«Как легко подчиняются мужчины внешней покорности милых, слабых женщин, как умиляются, сорят деньгами ради просто хорошо вымуштрованных матерями, себялюбивых, жадных, — размышляла Елена Леонидовна. — Сколько я знала женщин, пользующихся шумным успехом, достигших всего, что можно придумать, базарно, грубо ссорящихся между собой, устраивающих перебранку по любому поводу».
Но жизнь так устроена — это убеждение Елены Леонидовны уже никто не смог бы переменить, она давно приняла всё таким, как есть, и ничего уже не надо было менять ни в мире, ни в своей душе, и оттого можно было успокоиться.