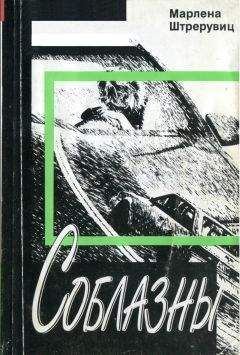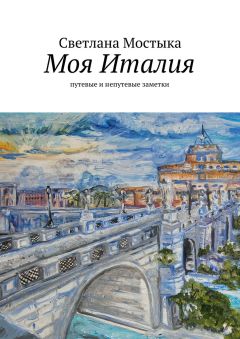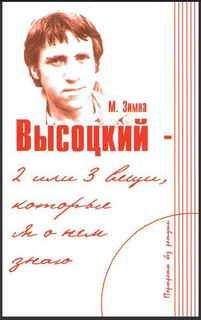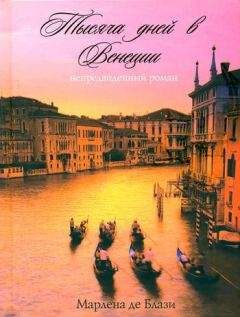Марлена Штрерувиц - Без нее. Путевые заметки
50-е годы. Нужно бы заняться направлениями в архитектуре. Но какой реализм. Фантастика. А ведь эта женщина была современницей берлинского экспрессионизма. Придерживалась тех же взглядов, что и Верфель. Об экспрессионизме говорили. За ужином. К которому надо было возвращаться домой. «Болтовня». Наверное, она могла интерпретировать действительность лишь в классическом духе. Была ли в этом надежда на вечность в ином мире? Была ли метафизика необходима для постижения смысла собственной жизни? А жестокость — от какого-то бога, раздающего светочи. Обмен. Чтобы забыть. Причины. Историю. И дела. Ничем не заниматься. Мочь. Иметь право. Легко сидеть на университетском газоне и размышлять. Но после всего, что было… Разве нельзя было найти для скульптуры в фойе театра другого решения, чем башня из масок. Но это, вероятно, никого не интересует. Почему же она делает из этого проблему? Для той-то никакой проблемы не было. Однако это не может быть только наследием патера Сигизмунда. Результатом показанных им, шестилетним девочкам, перед первым причастием документальных лент, снятых в концлагерях. Потом он отправлял их на лужайку играть в мяч. Говорил, вот — зло. В фильмах. И в них оно тоже есть. Показывал им снятое нацистами. Заставлял их взглянуть на жизнь глазами нацистов. И не указывал никакого выхода. Как такое вынести? Даже думать об этом она могла лишь теперь. Неужели запреты действуют так долго? Так основательно. Для ее родителей этой стороны жизни как бы не было. К счастью для них. Зачем и существует забвение, как не для того, чтобы хранить в нем прошлое. В войну они потеряли все. А дядя после войны уехал за границу. От позора. Потом. Но те кофейные чашки, что они взяли в опустевших квартирах, те чашки им никогда не пришлось возвращать. Вот так. Она сидела на траве. Пила колу. Захотела в туалет. Вернулась в здание. Прошла мимо «Башни масок» в глубину здания. Спросила, где туалет. Ей показали. Потом припудрила нос. А то он слишком красный. Накрасила губы. Сухие глаза горят. Надо бы купить глазные капли. Вернулась к машине. На ветровом стекле — штрафная квитанция. На всех других машинах — тоже. На каждой — розовая бумажка, засунутая под дворник. И на всех — под одним углом. Нарядно смотрится.
* * *
Она поехала обратно. В гостиницу. Сделать нужные звонки. Выехала на бульвар Санта-Моника. Поехала вниз, к морю. Этих мест она не знает. Наверное, забралась слишком далеко на восток. Остановилась у закусочной. «Bob's Big Воу». Желтое здание посреди парковки. Асфальт и пыльная земля. Редкие дома. На газонах между ними — сухая трава. Рекламные щиты. До неба. Рядом с желтым зданием — огромная фигура. В три раза выше него. Желто-красная. Яркая. Человек. Клоун. Как детская деревянная игрушка. Но огромная и пластиковая. И без головы. У Bob's Big Boy нет головы. Низкие тучи. Прямо до плеч Bob's Big Boy. Но дождя пока нет. Она направилась ко входу. Сверкнула молния. Желтый отблеск в темных тучах. Мгновенный. Грома не слышно. Машины. Грузовики. Здесь куда больше грузовиков. Грохочут по улице. Подскакивают на выбоинах. Она вошла. Села за столик. Смотрела на улицу. Подошла официантка. Немолодая. Выглядела немолодой. Маленькая. Худенькая. В униформе тех же цветов, что и Bob's Big Boy. Очень короткая юбка, толстые белые чулки и резиновые шлепанцы. Волосы цвета шампанского уложены густыми мелкими кудряшками. Парик. Маргарита заказала fried eggs. Over easy.[82] Сосиски с картошкой. Нет. Салата из салат-бара она не хочет. Все остальные посетители обедают. Дежурное блюдо — тушеное мясо по-домашнему. Она обрадовалась, что не заказала его. Была уверена, что коричневая подливка пахнет крахмалом и сладковатым бульоном. Вынести такое сейчас она не в состоянии. Выпила кофе. Принесли еду. Она проголодалась. Живот совершенно успокоился. Будто бы его и нет вовсе. Отчего, когда все в порядке, не получаешь никакого удовольствия. Все это европейские фокусы. Осознание через боль. Всегда. Она взялась за еду. Полила картошку кетчупом. Сверху положила желток. Давила языком во рту кусочки. Запивала сладким кофе. Улыбалась. Довольно глядела в окно. На улицу. Улица уходила в даль меж домов и рекламных щитов на пустых участках. Уличный шум — далеко. А в закусочной — шум кухни за стойкой. Звон тарелок. Приборов. Голоса. Шипение жаркого на гриле. Если бы можно было вернуться. В Зальцбург. На родину. Она могла бы поселиться в мансарде родительского дома. Растить Фридерику, и вообще. Ходить в церковь? Стать прихожанкой? Если сдавать дом, на жизнь хватит. Загородный дом можно продать. Она все равно не сможет содержать его. Ей только что прислали счет на 50 000 шиллингов за канализацию. И жила бы себе спокойно. На родине. Уединенно. Она заказала еще кофе и фруктов. Официантка поставила перед ней вазочку с кусочками дыни, виноградом без косточек, клубникой и киви. Она осторожно принялась за фрукты. Они — ледяные, и заломило зубы. Надо найти другую работу. Вагенбергер. Все стало слишком скверно. За десять лет он прошел путь от авангардиста до реакционера. Как многие шестидесятники. Восьмидесятые годы повсюду стали поворотным пунктом. Вагенбергер заговорил о вечных ценностях. Решил создать шедевр. Как это потомки ничего не узнают о нем. Но здесь это никого не интересует. Просто неинтересно. И что худого в том, что о тебе не вспомнят. Она посмотрела в окно. Сдать машину. Купить дешевую. И поехать. С запада на восток. Или на юг. И звонить. Время от времени. Печально. Что поделывает Фридль? Тоже не важно. Просто жить. Раствориться в бытии. И все, о чем она молилась, все сохранить в памяти. Для себя. Она допила кофе. Вот это жизнь. И она у нее будет. Когда-нибудь. Не сейчас. Сейчас — никак. Она не может без Фридль. Не хочет. Испить эту любовь до дна. А вот потом, когда постареет. Тогда она обретет свободу. Со страстью, которой научилась. Она достала из сумки деньги. Расплатилась. Оставила пожилой официантке очень большие чаевые. Улыбнулась ей. Вышла. Поехала в ту же сторону, откуда приехала. Снова начала узнавать местность. Долго добиралась до поворота на Сепульведу. Поехала в Марина-дель-Рей. Время еще было. Нужно спланировать встречи. В номере прибрано. Она открыла балконную дверь. Сумрачно. Низкие тучи. Но дождь и здесь кончился. Стала звонить. Встреча с Эрнстом Кренеком состоится. Его жена подтвердила это. У Аннелиз Эскин трубку взял муж. У его жены нет времени на подобные разговоры. Если им хочется, они могут говорить об этом с утра до ночи. Но что это даст. У Линн Адсон, Джейн Фрэнсис и Нины Расмуссен никто не отвечал. У Нины Расмуссен включен автоответчик. Она оставила свой номер. У Сида и Мэттью Фрэнсисов ответили жены, записавшие ее телефон. Она дала им еще и телефон Манон. Потом села. Надо пойти в австрийский культурный центр. И надо поговорить с доктором Клестилем. В Вене. Да что они знают? Что они могут знать? Что Анна Малер приходила на мероприятия. Иногда. И что она была интересным человеком. Это сообщил ей мужчина, которому она звонила в культурный центр. И спросил, есть ли у нее билет в «Спаго». Это он может устроить. Бывала ли там Анна Малер, осведомилась она. Он так не думает. Это — не ее мир, рассмеялся мужчина. Но ей все равно надо сходить. Стоит того. Она поблагодарила. Поняла, что Лос-Анджелес делится на мир стариков и мир молодежи, которая понимает, что такое Л. — А. на самом деле. Она еще спросила, получила ли Анна Малер компенсацию от австрийского государства. Об этом ему ничего не известно. И ему звонят по другому аппарату. Она налила в стакан воды. Бутылка почти пустая. Надо не забыть купить воды. В водопроводной слишком много хлора даже для того, чтобы чистить зубы. Манон спрашивала, по-прежнему ли в Вене такая чистая вода. В Вену вода поступает из горных источников, издалека. Чистая родниковая вода, объяснила она Чарли. Но и в Калифорнии — также. Это они в школе проходили. Чарли возмутилась. Ну ладно. Хорошо. Но она все равно ничего не понимает, отвечала Манон.
* * *
Она поехала к Манон. Над Санта-Моникой тучи еще темнее. Высокие волны в иссиня-черном море. Порывистый ветер. Она быстро ехала. Соображала, как ехать дальше. Продолжала путь. Он опять не позвонил. Остался недосягаемым. Ну и что. А она не позвонила Фридль. Не следует позволять ребенку обескураживать себя. Холодностью. Это ей в отместку. За то, что оставила дочку одну. На целые полгода — у отца. Но Фридль гордится тем, как хорошо ладит с отцом. А он был тогда один. Если бы тогда уже была Ивонна, она не смогла бы оставить с ним ребенка. А так. Так для Фридль лучше. А они кое-чего добились. Вагенбергер и она. Создали в Вене театр международного уровня. Это — достижение. Было. Теперь же, когда Вагенбергер возлагает все надежды на Бургтеатр, это достижение не кажется таким значительным. Но она ревновала к Герхарду. Чувствовала себя иногда лишней, когда они вместе. И все же. У Фридль есть кто-то, кроме нее. Фридль от нее не зависит. Это правильно. А она может уезжать, когда захочет. Далеко. Хотя. Было бы славно, если бы Фридль была рядом. Слушать ее. Не быть такой беспомощной. Фридль всегда дисциплинировала ее. Упорядочивала жизнь. Во всяком случае, в первое время. Когда она была так подавлена. Крохотный ребенок. Один день в точности походит на другой. Ничего не случается. Герхард хорошо к ней относится. Но близости нет. Она исчезает как личность. И ребенок.