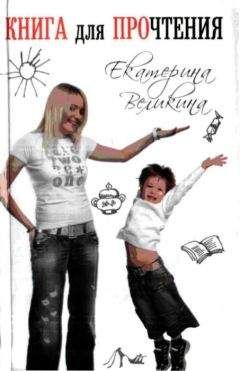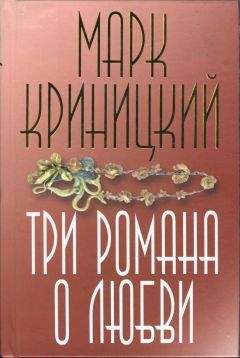Екатерина Великина - Пособие по укладке парашюта
– И правда, дурак, – радостно согласилась Маша. – Он меня в кино зачем-то пригласил. На послезавтра.
Послезавтра Маша поняла, что Вася не только неумен, но и нахален. Во-первых, купил билеты на последний ряд, а во-вторых, начал лезть целоваться еще во время титров.
– Целоваться в кино? Анахронизм, – безжалостно выдохнула на нее в курилке Петрова. – Он бы тебя еще в музей сводил. Па-ле-он-то-ло-гический.
Но Маша пропустила петровские речи мимо ушей. Неизвестно еще, что лучше – Вася со своим кино или ейный Лешка, который то норковые жакетики, то кулаком по уху.
– А летом мы, может быть, в Оман поедем, – вальяжно протянула она и стряхнула пепел с сигареты.
– Так прям и в Оман? – не унималась Петрова. – Вы же только-только познакомились!
– А он очень решительный, – в тон ей ответила Маша. – И потом Оман – это тебе не Сейшелы, а так…
Только что вернувшаяся из Эмиратов Петрова обиженно хмыкнула и уползла к себе.
* * *А Вася рос. Зима сменялась весной, весна распускалась в лето, и вместе с этой довольно скучной сезонностью набирал он свою настоящую мужскую силу. Точно ядовитый фрукт, необъяснимая ошибка природы, колесил Вася по женским светелкам, и всякий, вкусивший янтарный бок Его, был навсегда отравлен идеальностью Васиного организма.
– Пишет стихи? – причмокивала неисправимая идеалистка Сидорова. – Как это? Вот так прям берет и пишет?
– Ну да, – рассеянно вздыхала Маша. – Романтик… Или сумасшедший.
На слове «сумасшедший» Маша делала значительное лицо и вновь уходила в любовный морок.
– Подожди! Я не поняла. Он тебе их пишет, что ли? – давилась кофе Сидорова.
– А то кому же? – еще более рассеянно вздыхала Маша. – Правда, там с рифмой не очень…
У Сидоровой сохли губы и жгло в подреберье: плохие Васины стихи метастазами проникали внутрь и подбирались к сердцу.
После Машиного ухода Сидорова мучилась три дня и даже бегала в женскую консультацию за больничным.
Жадная Егорова, напротив, отделалась легким насморком: углядела штампик на цепочке. А не углядела бы – лежать ей с ангиной, хапуге.
Цепочка и впрямь была хороша: тоненькая, серебряная, с крохотными капельками позолоты в сочленениях и небольшим бирюзовым камушком вместо кулона.
– Вчера подарил, – звенела цепочкой Маша. – Говорит, к глазам подходит.
– Да, недурна, – как-то по-лисьи отвечала Егорова. – На антикварную похожа. Дай посмотреть!
Маленькими своими руками вертела она Васин подарок, и бирюзовый плевок тускло мерцал при свете лампы.
– Вот! Штамп-то турецкий. И никакой это не антиквариат! – почти сразу же просияла она. – Дурят мужики нашу бабу как могут.
– Но ведь к глазам-то все равно подходит, – улыбалась Маша, и синий взгляд ее сливался с бирюзовым намертво, отчего в носу Егоровой першило и мокло.
Таня, Лека и Кирочка простудились сразу же. Коллективный грипп носил весьма острый характер. Вася не увлекался футболом, как Юрик, не раскидывал носки, как Славик, и не храпел, как Иннокентий.
– Как это не храпит? – расстраивалась Кирочка. – Может быть, ты его чем-нибудь особенным кормишь?
– Вообще не кормлю, – пожимала плечами Маша. – Он и сам прекрасно готовит.
– Сам готовит? – еще больше расстраивалась Кирочка. – И как? Вкусно?
– Ты что, не заметила, как я поправилась? – невинно удивлялась Маша. – Вторую неделю на диете сижу.
Кирочка изумленно ахала, и Лека с Таней вторили ей: из трех бренных супругов стряпать умел только Иннокентий и только гречневую кашу со шкварками.
Но больше всех страдала Петрова. На правах лучшей подруги она ближе всего подошла к Васиному естеству и оттого недужила постоянно. Ларингиты сменялись отитами, отиты переходили в кашель, а кашель не кончался никогда. Она меняла врачей, лекарства и врачей, прописавших ей эти лекарства, на других врачей, но ничего не происходило. На норковый жакет был куплен легонький пуховик «меха-только-после-сорока», бриллиантовые серьги померкли перед цирконовыми капельками, а умопомрачительное итальянское платье выглядело прямо-таки школьной формой по сравнению с разноцветной китайской маечкой.
– Не особо он тебя балует, – тыкала в маечку Петрова и тут же заходилась в приступе кашля.
– Да, он не богат, – протягивала ей чай Маша. – Но это ведь не главное.
«А что тогда главное?» – размышляла ночами Петрова и пила таблетки.
Как водится, именно Петрова заподозрила подвох.
Это произошло, когда Маша принесла на работу фарфоровую кофейную чашку.
– Вася сказал, что из фарфора кофе вкуснее, – улыбнулась она и поставила чашку на стол.
Приготовившаяся было кашлять, Петрова поднесла чашку к глазам. Кашля не было.
– А то, что эта чашка – один-в-один как из сервиза твоей матушки, он не сказал? – наконец спросила она.
– Просто похожа, – смущенно пожала плечами Маша. – Мало ли чашек…
Но воодушевленная чистотой легких, Петрова осмелела.
– А кто он такой, Вася твой? – наступала она. – И чего это ты его так скрываешь?
– Никого я не скрываю, – пыталась защищаться Маша. – Просто повода как-то не было…
– Повода не было? – кровожадно ухмыльнулась Петрова. – Ну это не беда! У меня через неделю день рождения, если ты помнишь. Вот и познакомишь меня со своим Василием. В приватной обстановке, так сказать.
– Конечно, познакомлю! – пыталась выдавить из себя улыбку Маша. – Он очень компанейский.
– И не говори, что я не предупредила тебя заранее!
Неожиданно выздоровевшая Петрова так шарахнула дверью, что Машина чашка упала со стола и, описав невообразимую дугу, разбилась.
Вася не позвонил.
Ни в этот вечер, ни в следующий.
«Что же мне делать? – ломала голову Маша. – Господи, что же мне делать?»
Но небеса молчали, и в их молчании было столько презрения, что Маша плакала и пила валокордин.
«Разлюбил? Ушел? Оставил? Но ведь от любви должно что-то оставаться», – думала она.
Целые дни Маша проводила в поисках доказательства ушедшего счастья. И ничего не находила. Поиск так измотал ее, что к концу недели она слегла. И не понарошку, а по-настоящему. Как будто порожденные Васей женские болячки стеклись к ней и тянули из нее жизнь.
Петрова позвонила точно в субботу.
– Ну что, вы идете? – ехидно поинтересовалась она. – У меня уже гостей полон дом.
– Мы… заболели, – давясь от собственной ничтожности, прошептала ей в трубку Маша.
На другом конце провода у Петровой начался кашель. Но он не испугал ее, а, напротив, придал ей силы. И выходя из дома, Петрова подумала, что в конце концов здоровье дороже всего.
Когда позвонили в дверь, Маша решила, что это мама, и даже не успела испугаться, увидев на пороге Петрову.
– У тебя же гости, – прижалась к стене она.
– Болеете, значит? – оттеснила ее Петрова. – И чем болеете?
– Какое твое дело? – закричала Маша.
Но Петрова ее не слышала. Истина, поселившаяся в ней, заглушала все остальные шумы и рвалась наружу.
– Хочешь, я скажу, чем вы болеете? – прошипела она. – Ничем вы не болеете. Нет Васи твоего и не было! Ты все придумала, сумасшедшая! Назло мне придумала. Не бывает таких, слышишь. Не бывает!
– Есть, – заплакала Маша. – Есть, есть, есть!
Крупные слезы текли по ее лицу, превращая и без того истеричное «есть» в хроменькое «исть».
– И где он «исть»? – немедленно отреагировала Петрова. – Тут? – И она распахнула дверь туалета. – За толчком спрятался? Или тут? – хлопнула она дверью ванной. – А может быть, в гостиной? – отпихнув Машу с прохода, влетела Петрова в комнату и остановилась.
Там, в лучах бьющего через капроновую занавесь солнца, на продавленном диване, сидел Вася. Солнце доходило до его головы и терялось в волосах. И то ли от самого солнца, то ли от Васиных волос комната была залита ровным теплым светом.
Про Милку
Была у меня подруга Милка Бакланова. Была, потому что где она сейчас, я не знаю.
Есть такие люди, у которых неустроенность в крови. Где-то там, между лейкоцитами и красными кровяными тельцами, плавает неистребимый ген хаоса, и рано или поздно хаос вызревает и ползет наружу, точно спора. Баклажан состоял из хаоса «от и до». Хаос был и в крашенных хной волосах, и в обгрызенном лаке для ногтей, и даже в дамской сумочке через плечо. Кстати, Мила была единственным человеком на свете, в чьем ридикюле, помимо помады, могли затесаться две белесых посудины по ноль семьдесят пять.
На том мы и познакомились.
Плохие друзья – это все равно что рассматривать собственные испражнения в туалете. В дерьме нет истины, но это не избавляет от поиска.
Зачем она была мне нужна? Скорее всего из тех же соображений, по которым идут устраиваться на работу в хоспис. Иногда человек испытывает неистребимое желание узнать, что кому-то хуже. Но Мила была лучше хосписа. В отличие от исколотых обезболивающими больных она не вызывала жалости, и даже в самом пьяном бреде ее не было укоризны.
![Кирилл Усанин - Разбуди меня рано [Рассказы, повесть]](/uploads/posts/books/134809/134809.jpg)