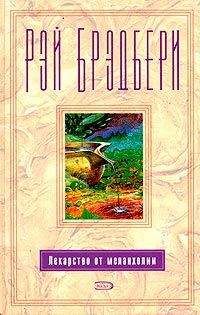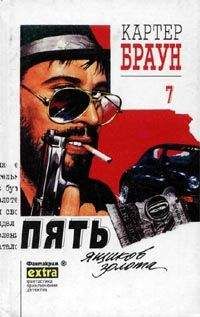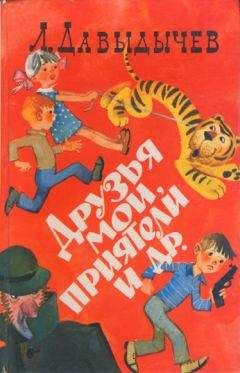Юрий Арабов - Биг-бит
Перед ним висела табличка с именем Генерального секретаря. С Генсеком были проблемы — первое лицо партии соглашалось со всем, что ему говорили, и со всем, что ему предлагали. Когда ему ничего не говорили и ничего не предлагали, он тоже соглашался, но соглашался молча, тая в душе непростую думу. Юрий Владимирович не мог понять причину такого согласия и гадал, кто находится перед ним и какая каша варится в душе этого по-своему незаурядного человека.
Что по этому поводу думали классики, какой совет давали? Юрий Владимирович очень любил Толстого и его «Войну и мир», Кутузов там тоже со всем соглашался, плыл по течению и, наконец, благодаря своей неподвижности, изгнал из страны французских захватчиков. Леонид Ильич молчал точно так же, с неменьшей мудростью и значением, подразумевая под этим молчанием, что он тоже хочет кого-то изгнать. Но кого и куда? Этого никак не мог ухватить Юрий Владимирович. Если французов, то из всей Франции на территории России находилось лишь французское посольство, и изгонять его не было никакого смысла, тем более что Франция, не входя в военные структуры НАТО, была потенциальным партнером СССР, а ее компартия на советские деньги постепенно подготавливала эту страну к социализму. «Может быть, он хочет изгнать врагов социализма из ЧССР?» — продолжил Юрий Владимирович цепь мыслей, и это был не самый фантастический вариант, который лез в голову.
Несколько месяцев назад Леонид Ильич молча согласился с планом вторжения войск Варшавского Договора в Чехословацкую республику, но согласился как-то неактивно, без души и задора, так согласился, что при первой же неудаче или заминке мог бы сказать: «А я ведь вас предупреждал! Я ведь молчал, как мог. От души и сквозь зубы. А вы не послушались и провалились!». Но провала не было и не могло быть. Интеллигенция в Праге прикусила язык, как только пролилась первая кровь.
С этим феноменом интеллигентского сознания Юрий Владимирович столкнулся еще в Будапеште двенадцать лет назад, когда был там советским послом. Профессора и студенты, в основном гуманитарии, требовали свободы слова до первых выстрелов пушек, а потом, после этих выстрелов, многие из горлопанов начинали каяться и бить себя кулаком в грудь, вспоминая о христианском Боге, о непротивлении злу насилием, о Толстом и Кафке в одной корзине. Юрий Владимирович тоже был против насилия и всегда, сколько себя помнил, стоял за свободу слова. Да и сегодняшнее Политбюро первой в мире страны социализма было составлено из подобных людей, пусть и недалеких, но все же не алчущих крови, людей, которые после первой поездки в капстрану начинали чесать затылки и сокрушенно вздыхать. Им нравились в капстране прежде всего магазины и сантехника. Уже несколько месяцев в рабочем столе Юрия Владимировича находилась записка о судьбе одного профессора-филолога из МГУ. Профессор был отпущен в Финляндию в туристическую поездку и там, в гостинице города Хельсинки, расположенной недалеко от проспекта Маннергейма, повредился в уме. Произошло это повреждение в ванной, где филолог битый час сидел возле унитаза, не догадываясь о том, каким образом спускается вода в этой блестящей, не знакомой ему конструкции. На второй час безуспешных попыток профессор расплакался от обиды, а на третий начал смеяться, как ребенок. Его привезли в Москву розовым от счастья и крутящим все, что попадалось в пути, — ручки на дверях железнодорожных купе, пуговицы, замки и женские груди. Была бы воля членов Политбюро, воля, не стесненная политической необходимостью, они отпустили бы в каплагерь и Венгрию с Чехословакией, и ГДР с Польшей, все бы стали каплюдьми, опрятно одетыми и плюющими в капурны дистиллированной капслюной. Но во всем была виновата Америка, именно она провоцировала и наущала, и вопрос стоял не в том, отпускать ли чехов или словаков в капстрану, а в том, что, отпустив их в капстрану, мы сразу же получали капврагов СССР. Солдат, воюющих против СССР. Получали из-за Америки. Следовательно, из-за ее провокационной антисоветской политики люди в Восточном блоке и плевали мимо урн, получая от государства вместо капсантехники в лучшем случае капремонт. Логично? Вполне. Несмотря на абсурдность вывода. Когда мы можем отпустить людей на Запад или пригласить Запад сюда, на Восток? Когда не будет Запада в его сегодняшнем виде. Нужно потерпеть, только и всего.
Юрий Владимирович удовлетворенно вздохнул. Ему припомнились строчки его любимого Пастернака:
Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.
Разве не он сам, Юрий Владимирович Андропов, являлся лирическим героем этого бессмертного произведения? Конечно, стихи были написаны про него. «Во всем мне хочется дойти, — подумал он. — Это верно. А вот хочется ли дойти Генеральному секретарю? И куда ему хочется дойти?».
Он вдруг вспомнил термы и бассейны Будапешта. Круглая площадь Героев с античной аркой и каменными фигурами, за ней — обширный парк с кипарисами, вязами и прудами. В городе — плюс 30, над черепичными крышами двухэтажных домов трепещет горячий воздух, порождая фантомы и привидения. Черным статуям феодальных вассалов, половина из которых была вампирами, жарко, и в тени памятников прячутся откормленные голуби. Но в парке зноя почти не чувствуется. Стрекочут кузнечики, на аккуратно остриженных желтоватых газонах сидят влюбленные и запивают расплавленные пирожные газировкой. Внутри парка расположены термы — античный двухэтажный полукруг с арками, в центре которого должна находиться гладиаторская арена. Но арены там нет. Вместо нее налита голубая минеральная вода разной температуры. В одном бассейне она — плюс 40, во втором — всего лишь плюс 22. Юрий Владимирович, словно простой венгерский гражданин, покупает себе вместе с билетом аккуратную белую шапочку для купания, расплачиваясь тем, что лежит в кармане, форинтами или даже советским рублем. Было однажды такое дело, он вручил по рассеянности девушке, сидящей в кассе, мятый советский рубль. И девушка, улыбаясь, взяла, потому что она была его другом и другом всего советского народа. Правда, в тот день Юрий Владимирович в термы не пошел, потому что подумал, что его, наверное, там убьют. Застрелят из винтовки с оптическим прицелом, когда он будет выходить из бассейна и садиться в матерчатый шезлонг, чтобы погреться под ласковым европейским солнцем. Рим и Будапешт были его любимыми городами. Не считая, конечно, Рыбинска, где он учился и где с риском для жизни купался на городском пляже в прохладной, как погреб, Волге. В городе время от времени прорывало канализацию, и мутная струя устремлялась прямо на городской пляж. «Рыбинск… — мечательно подумал Юрий Владимирович, — Рыбинск и Будапешт… Люблю!»
Стрелка коснулась десяти. Неулыбчивый секретарь молча распахнул перед ним дверь, и Андропов, держа в руках папку с документами, чуть сутулясь и гоня нахлынувшие воспоминания, проскользнул в кабинет.
Перед ним, набычившись и склонившись над стаканом, в котором были налиты «Ессентуки», сидел бровастый молодец степного вида. Широкие скулы и узкие глаза подчеркивали историческую преемственность, — когда-то человек со степными скулами основал эту вихревую партию, взявшую на себя ответственность за переустройство мира. Потом человек с кавказскими скулами подчинял этот вихрь собственной воле и, треснув от непосильной тяжести, лежавшей на нем, мучительно умер, — совесть терзала его за то, что не всех врагов он может унести с собой в могилу. Сейчас еще один степняк должен был довершить дело переустройства, не забывая, по возможности, и об обустройстве. Вихря, правда, почти не осталось, но отдельные глотки имитировали его, поддувая и присвистывая. «Трудно, — подумал Юрий Владимирович, — как трудно мне, европейцу, быть в этом пустынном степном окружении! Но что же поделать, надо. Если не я, если не такие люди, как мы с Алексеем Николаевичем, то все они сядут на ишаков!»
«О чем думает эта гладкая рожа? — задал в это время сам себе вопрос Леонид Ильич. — А думает она про то, что я — степняк! Что ж, это правда. Так оно и есть!». С утра его мучала химера — он в должности секретаря обкома едет по степи в пыльном, скрежещущем всеми своими частями «газике». Невысокое утреннее солнце окрашивает ковыль в нежнейший желтый цвет, от которого хочется плакать. Вверху кружит хищная птица, в высокой траве, украшенной бриллиантами росы, перелетают жаворонки. Внезапно на дороге попадается телега с накошенным сеном. На самом верху его сидит молодка с круглым веснушчатым лицом. Упругие черные соски ее упираются в блузку и хотят вырваться наружу, цветастая юбка, поддавшись порыву прохладного утреннего ветерка, заголяет ноги, — они полноватые, круглые, с большими коленями, — и плоский рыжеватый лобок, похожий на остров… Увидев бровастого человека в «газике», молодка громко смеется и натягивает юбку на колени. А секретарь обкома проезжает мимо, чувствуя, что этого мига уже больше не будет никогда. Не будет свежего, как поцелуй, утра, не будет этой отчаянной веснушчатой девки, которая, конечно, не знает, кто перед ней… Не будет счастья. А ведь все могло быть иначе! Можно было бы выйти из машины, заговорить, потрогать рукою сено, конечно, инкогнито, конечно, не называя своего имени и должности, чтобы не испугать ее. Как бы ненароком коснуться задубевшей кожи ее ступней. Потом двинуться дальше, чувствуя, как прохлада крепких икр переходит в жар разморенных мягких ляжек… Но нет. Он должен ехать на совещание, вникать в документы, планы и разнарядки, но если власть — это только документы и планы, то зачем эта власть нужна? Непонятно. Леонид Ильич не любил повелевать, не очень к этому стремился и не очень хотел вертеть людьми, а по-настоящему желал лишь прохладного утра с повстречавшейся по дороге наглой молодкой. «Это все от молодости, Леня, сказал ему однажды член КПСС с 1903 года, шамкающий противный старик, вечно лезущий не в свое дело. — Непережитая кровь играет! Про это знает каждый партиец. И у Ильича такое было, ты уж мне поверь!» Возможно, противный шамкающий старик был прав, только у Леонида Ильича непережитая кровь постепенно перетекала в зрелость, да и в глубокой старости его ослабленные сосуды оказались наполнены все той же кровью, непережитой, степной и детской.