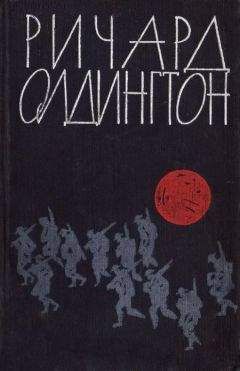Ричард Олдингтон - Дочь полковника
— Т-с-с! — прошипела Джорджи. — Он вас услышит!
— Я ничего не вижу, — жалобно шепнул Перфлит и, морщась, погладил голень. — Тут темно, как в преисподней.
— Сюда! — Джорджи взяла его за руку и повела в дальний темный угол сарая. За останками телеги, хранившимися тут, быть может, лет двадцать, грубо сколоченная приставная лестница вела на сеновал. Джорджи ловко вскарабкалась по ней. Мистер Перфлит не отставал, почти задевая носом ее пятки.
Наверху Джорджи вновь взяла его за руку.
— Осторожнее! Идите по балкам. Настил между ними — одна труха.
В легкой панике мистер Перфлит робко вступил на свою балку, опираясь на твердую руку бывшей девочки-скаута. Так они добрались до низенькой арки, занавешанной мешковиной, которую Джорджи откинула. Перфлит очутился в квадратной каморке, куда еле просачивался свет из зарешеченного оконца под потолком. На полу лежал коврик.
— Ну вот, — произнесла Джорджи почти нормальным голосом. — Тут нас не найдут. Сюда никто не заглядывает.
— Это и есть ваше убежище?
— Да. Я сюда забираюсь, когда дома становится уж совсем невыносимо. Незаметно проскользнуть внутрь очень просто. Как и уйти… — Она запнулась. — Мне не позволяют курить, но тут я иногда выкуриваю папироску в грустном одиночестве. Вы на меня не наябедничаете? — умоляюще докончила она.
— Я не настолько низкий негодяй! — Мистер Перфлит протянул ей свой портсигар.
— И про это место никому не скажете?
— Ну конечно!
— Честное благородное слово?
— Parole d’honneur[12].
Мистер Перфлит чиркнул спичкой, и огонек, подставленный Джорджи под защитой ладони, выхватил ее лицо из серого сумрака. Вид ее крупного носа неприятно покоробил мистера Перфлита. Но ее подбородок, которым она случайно задела его пальцы, оказался приятно гладким и нежным. Они уселись рядом на коврике. Прятки среди кустов, ощущение веселой игры, запретная папироска в запретнейшей из ситуаций — наедине с мужчиной — все это рассеяло смущение Джорджи. Словно бы сидеть и курить рядышком с мистером Перфлитом в полутьме душного сарая было и вполне естественно, и приятно. Кончики их папирос рдели, как два уголька.
— Вы сумели устроить Тома куда-нибудь? — спросила она. — И так благородно с вашей стороны дать ему еще и работу в вашем саду.
Мистер Перфлит неловко кашлянул.
— Да, я нашел Тому очень хорошее место, но, боюсь, ему будет уже не до сада.
— Но почему?
— Видите ли, как я вам уже говорил, найти для Тома что-нибудь здесь — задача безнадежная. Наши противники слишком сильны. Но, как мне было известно, Маккол накоротке с директором новой криктонской фабрики. Он даже вложил в нее кое-какие деньги. Разумеется, он сразу загорелся идеей устроить туда Тома рабочим. Обо всем уже договорено. Для начала Тому будут платить пятьдесят пять шиллингов в неделю, а в недалеком будущем, возможно, и семьдесят.
— Ах, как я рада! Но чем это помешает ему ухаживать за вашим садом?
— Ну-у-у… — Мистер Перфлит явно слегка запутался со своим объяснением. — Э… Ему же придется каждый день ездить на велосипеде в Криктон и обратно, так что возвращаться он будет очень усталым. При таком приличном заработке ему вряд ли захочется тратить силы еще и по вечерам. Естественно, если он все-таки решит немного потрудиться днем в субботу, я буду ему платить за час по профсоюзным расценкам.
— Как вы добры! — восторженно воскликнула Джорджи. — По-моему, вы все устроили самым чудесным образом. Я непременно объясню Лиззи, что она всем обязана вам!
Мистер Перфлит нащупал ее пальцы и ласково их пожал.
— Ничуть! Собственно говоря, обязана она этим только вам, и вам одной. Если бы не ваше горячее к ней участие, мы, прочие, вряд ли загорелись бы желанием ей помочь.
Джорджи блаженно порозовела. Ее так редко хвалили! По правилам Смизерсов, ей следовало радоваться, когда ее хотя бы не бранили. И она позволила мистеру Перфлиту задержать ее руку в своей. Перфлит погасил папиросу и убрал очки в карман, не отпуская Джорджи. Увещевания невидимого советника у него в душе не связывать себя стеснительными альянсами пропали втуне. Он не столько ощутил, сколько догадался, что Джорджи вся дрожит. В густом сумраке они переговаривались вибрирующим шепотом.
— Да, — продолжал мистер Перфлит с мурлыкающей убедительностью, несколько чрезмерной в данном случае, — вся заслуга, какова бы она ни была, принадлежит вам, и только вам.
Джорджи почувствовала прилив счастья, радостного удовлетворения, словно свершилось чудо, оправдавшее ее до сих пор никчемную жизнь. Однако смизерсовский кодекс предписывал немедленно оборвать мистера Перфлита, тем более что он, вполне вероятно, просто подсмеивается. Только ей ужасно хотелось, чтобы он продолжал!
— Ну что вы! Я же ничего не сделала!
— О нет! Я ведь слышал, как вы заступились за Лиззи, когда ваша матушка намеревалась ее выгнать, и, должен признаться, восхитился вами.
— Но как вы узнали?
— Сказать?
— Ну, пожалуйста!
— Если уж приходится признаваться, то от Джадда. Он сначала полагал, будто Лиззи выручил ваш батюшка, но она объявила, что ее заступница — вы.
— Напрасно она проговорилась…
— Разумеется, — вкрадчиво продолжал мистер Перфлит, — я, как вы понимаете, гляжу на это под несколько иным углом. — Он выпустил руку Джорджи, ловко обнял ее за талию и вновь завладел той же рукой. Она не воспротивилась. — Тем больше причин, — продолжал он, слегка вибрируя, — восхищаться вами.
— О?..
— Мы живем в странные времена, — задумчиво добавил мистер Перфлит. — А впрочем, любое время, наверное, кажется странным тем, кто живет в нем. Возьмите историю с Лиззи. Ведь, в сущности, это квинтэссенция всего полового вопроса.
— О?
Мистер Перфлит придвинулся чуть теснее и продолжал доверительным тоном:
— В дни войны многие свихнулись, но даже еще грандиознее число тех, кто решил больше ни на какую удочку не попадаться и должен все для себя определять сам. Далее имеются молодые шаловливые идиоты, которые, видимо, вознамерились дразнить пуритан и пустились во все тяжкие… или хотя бы делают такой вид.
Джорджи слушала его голос, не различая слов, не улавливая их смысла. Она была точно кошечка, против воли завороженная хриплой любовной песнью пожилого кота. Сказать правду, мистер Перфлит быстрее достиг бы своей цели — будь у него такая цель — с помощью молчания, а не слов. Но он говорил, ибо, в сущности, ничего другого делать не умел, он говорил, ибо принадлежал к людям, для которых слова — единственная реальность, и еще он говорил, чтобы внушить себе, будто у него есть-таки цель. Он не влюбился в Джорджи, она его даже не привлекала — женщины вообще привлекали его весьма условно и поверхностно. По мере сил он пытался обольщать их, но без малейшей страсти или пыла, только чтобы удовлетворить свое тщеславие и потребность властвовать над кем-то, а может быть, и бархатную жестокость. Джорджи в его объятиях удерживало лишь физическое соприкосновение с ним, но оно совсем ее парализовало непонятно сладкой истомой. В то же время ей было крайне не по себе — и не столько от смущения, сколько от инстинктивного недоверия к Перфлиту. При всей его вылощенности этот пустозвон действовал на нее скорее отталкивающе, извергаемые им идеи шокировали ее и оскорбляли. Наивная до невежества, она была неспособна понять даже себя, а уж тем более мужчину подобного типа, но здоровое начало в ней еще не совсем угасло, и он внушал ей чувство, похожее на отвращение. И все же в сумраке старого сарая, куда вливались душистые волны теплого весеннего воздуха, у нее не нашлось силы воспротивиться обвивавшей ее руке Перфлита, сладкому пожатию его пальцев. Ум ее был ввергнут в смятение, действовали лишь физические ощущения. Ангел-хранитель поспешно ретировался в более пристойное место, в последний раз с ужасом и возмущением призвав верную дщерь Армии и Церкви не допускать, чтобы ее ласкал мужчина, чьи намерения были — если они вообще у него были — самыми нечестными. Голос Перфлита звучал, звучал, звучал, и к собственному изумлению Джорджи поймала себя на желании грубо его оборвать: «Замолчите же и поцелуйте меня!» Однако она промолчала и продолжала ждать в дурманящей истоме.
— С другой стороны, — продолжал Перфлит с довольно комичной медовостью в голосе, — есть очень много людей и вроде вас, которые были вскормлены на иной, менее рациональной морали и, к сожалению, все еще за нее цепляются. — Он притянул ее поближе, почти опрокидывая на себя, и она с тревожным предвкушением наперекор стыду неловко положила голову ему на плечо. Перфлит искренне удивился такой пылкой покорности, и, облекись мелькнувшая у него мысль в слова, он сказал бы: «Ах черт! Девица меня возжелала!» Такое признание его неотразимости ему польстило. Или же… Он чуть не вздрогнул от внезапного подозрения, — уж не дразнит ли она его? И осторожненько сдвинул ладонь на ее левую грудь. Ого! Сердце так и колотится! Ну просто жужжит как динамо-машина. Мужское тщеславие, самое жалкое проявление самолюбия, требовало, чтобы он развил успех. У него даже возникло что-то похожее на желание.