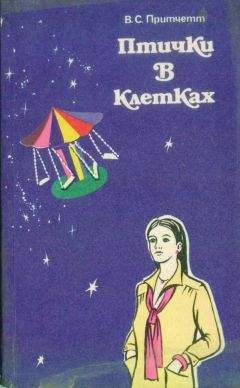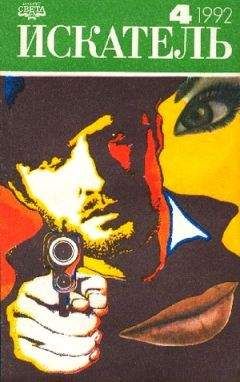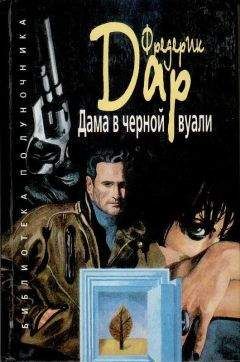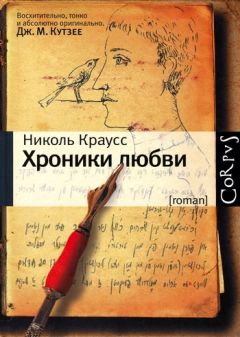Николь Краусс - Большой дом
Детские обманы
Я познакомилась с Йоавом Вайсом и влюбилась в него осенью 1998 года. Познакомились мы на вечеринке в доме на Абингдон-роуд, в дальнем ее конце, сильно к югу от Оксфорда, где я прежде никогда не бывала. Я влюбилась — и состояние это было для меня внове. Прошло десять лет, но то время до сих пор вспоминается по-особому. Йоав, как и я, учился в Оксфорде, но жил в Лондоне, в районе Белсайз-парк, вместе с сестрой Лией. Она училась в Королевском музыкальном колледже по классу фортепьяно, и я часто слышала, как она играет за стеной. Иногда музыка резко обрывалась и наступала долгая тишина — разве скрипнет отодвигаемый стул или процокают каблуки. Я ждала, что сестра Йоава вот-вот зайдет познакомиться-поздороваться, но тут музыка начиналась снова. Я успела побывать в доме раза три-четыре, прежде чем наконец познакомилась с Лией и поразилась ее сходству с братом, только она выглядела как-то ненадежно, призрачно, кажется — отведешь взгляд на минуту, а ее уже нет.
Большой траченный временем кирпичный дом-викторианец был для них двоих слишком велик, но их отец, известный антиквар, хранил там много мрачно-прекрасной мебели. Раз в несколько месяцев он бывал в Лондоне проездом, и все в доме волшебно преображалось в соответствии с его безупречным вкусом. Некоторые столы, стулья, лампы или диваны подлежали удалению, их упаковывали и куда-то отправляли, но их место тут же занимали другие. Таким образом, комнаты все время изменялись, наполнялись таинственными настроениями, перенесенными из неизвестных зданий и квартир, чьи владельцы умерли, обанкротились или просто решили распрощаться с вещами, среди которых прожили много лет, и предоставили Георгу Вайсу полную свободу распоряжаться ими по своему усмотрению. Иногда потенциальные покупатели приезжали, чтобы лично посмотреть на мебель, и Йоав с Лией спешно убирали грязные носки, открытые книги, журналы с потеками кофе и пустые стаканы, которые копились на всех поверхностях от одного визита уборщицы до другого.
Но большинство клиентов Вайса сюда не наведывались: кто-то безоговорочно доверял безукоризненной репутации антиквара, кто-то просто был слишком богат и мог покупать не глядя, кто-то же приобретал тот или иной предмет мебели не за внешний вид, а за те чувства, которые он вызывал — за память о прошлом. Когда Георг Вайс не летал между Парижем, Веной, Берлином и Нью-Йорком, он жил на улице Ха-Орен в Эйн-Кареме, пригороде Иерусалима. В детстве Йоав с Лией тоже обитали там, в каменном доме, оплетенном вьющимися растениями, где ставни всегда держали закрытыми, чтобы внутрь не проникал испепеляющий свет.
Дом, где я прожила с ними с ноября девяносто восьмого года по май девяносто девятого, находился совсем близко, минут двенадцать пешком, от дома двадцать по Маресфилд-гарденс, где в сентябре тридцать восьмого, вырвавшись из лап гестапо, поселился доктор Зигмунд Фрейд — тут он ровно через год и умер от тройной дозы морфия, которую он сам себе прописал. Часто, выйдя на прогулку, я направлялась именно туда. Почти все имущество из венского дома Фрейда удалось упаковать и переправить в Лондон, где жена и дочь с любовью и тщанием воссоздали кабинет, который он вынужденно оставил на Бергштрассе, 19. В то время я ничего не знала о кабинете Вайса в Иерусалиме и не могла оценить поэтику этих параллелей. Возможно, все изгнанники пытаются возродить пространство, которое потеряли. Они боятся умереть в незнакомом месте. Я многого не знала, и все же зимой девяносто девятого года, неспешно обходя кабинет в доме доктора Фрейда, мягко ступая по истертому восточному ковру и умиротворяясь от одного вида фигурок и статуэток, которые во множестве стояли на всех поверхностях, я дивилась иронии судьбы. Фрейд, проливший столько света на калечащее бремя, которым ложится на наши плечи память, тоже не умел сопротивляться ее мифическому волшебству, то есть ничем не отличался от нас, простых смертных. После его смерти Анна Фрейд сохранила кабинет в точности таким, каким его оставил ее отец, вплоть до очков — они навсегда остались лежать там, куда он, сняв, положил их в последний раз. Со среды по воскресенье, с двенадцати до пяти можно прийти в эту комнату и застать ее точно в таком виде, в каком ее покинул хозяин — тот, кто подарил нам наиболее стойкие, не меркнущие пока представления о сущности человеческой. В листке, который выдает посетителям пожилая дама-экскурсовод, сидящая на стуле у парадной двери, предлагается рассматривать эту экскурсию не только как осмотр реального жилища, но и — учитывая различные экспонаты и коллекции, выставленные в этих комнатах, — как путешествие по жилищу метафорическому, по человеческому разуму.
Я говорю «дом, где я прожила с ними», а не «наш дом», потому что ничего моего там не было, а сама я считалась, самое большее, привилегированным гостем. Хотя провела там семь месяцев. Кроме меня в доме регулярно появлялась уборщица, румынка по имени Богна, которая боролась с хаосом, угрожавшим брату с сестрой, словно буря на горизонте: вот-вот затопит все и вся. А когда случилось то, что случилось, уборщица исчезла — то ли потому что устала бороться с беспорядком, то ли потому что ей перестали платить. А может, она почувствовала, что дело плохо, и захотела, пока не поздно, сойти с корабля. Богна прихрамывала, думаю, у нее была вода на колене, родная дунайская водичка очень слышно плескалась там внутри, когда она топала из комнаты в комнату со шваброй и перьевой метелкой для пыли, вздыхая, точно ей только что напомнили обо всех горестях земных. Коленку она всегда плотно заматывала, а волосы травила добела каким-то собственноручно сваренным зельем из опасных химикатов. От нее пахло луком, нашатырем и сеном. Женщина она была трудолюбивая, но иногда прерывала работу, чтобы рассказать мне о своей дочери, которая жила в Констанце и работала там садовником за мизерную плату. Дочку бросил муж — ушел к другой женщине. Еще она говорила о матери, которая наотрез отказывалась продавать свой крошечный клочок земли, даром что страдала от ревматизма, еле ноги передвигала. Богна содержала их обеих, посылала им каждый месяц деньги и одежду от Оксфордского благотворительного комитета. Ее собственный муж умер пятнадцать лет назад от редкой болезни крови, теперь бы его вылечили — лекарство изобрели. Меня она называла Изабеллой, хотя на самом деле я Изабель, а обращаются ко мне чаще всего — Изи. Но я никогда ее не поправляла. Не знаю, почему она так любила со мной говорить. Может, видела во мне союзника? Или, по крайней мере, внешнего, постороннего для этой семьи человека? Сама-то я так не считала, но Богна понимала больше, чем я.
Как только Богна ушла, дом пришел в упадок. Враз одряхлел и замкнулся в себе, словно протестовал против исчезновения своего единственного защитника. В каждой комнате копились стопки грязных тарелок; пролитые напитки и упавшие куски пищи оставались на полу до скончания века; слой пыли все утолщался, а под мебелью она уже пушилась нежными серыми клубами. В холодильнике поселилась черная плесень, в открытые окна захлестывал дождь, оставляя разводы на занавесках, смывая краску с подоконников и пропитывая их влагой. Было ясно, что они рано или поздно сгниют. Когда в окно залетел воробей и начал, хлопоча крыльями, биться под потолком, я пошутила, что, мол, это призрак Богниной перьевой метелки. Шутку мою встретили угрюмым молчанием, и я поняла, что Богну, которая заботилась об Йоаве и Лие целых четыре года, упоминать больше не следует.
После Лииной поездки в Нью-Йорк, когда между молодыми Вайсами и их отцом повисла эта ужасная тишина, они вообще перестали выходить из дому. Я оказалась единственным человеком, который обязан был доставлять из внешнего мира все, в чем они нуждались. Иногда, отколупывая со сковородки яичный желток, чтобы приготовить какой-никакой завтрак, я думала о Богне и надеялась, что однажды она осуществит свою мечту и поселится в домике на берегу Черного моря. Два месяца спустя, в конце мая, у меня заболела мать, и я почти на месяц уехала домой, в Нью-Йорк. Я часто, раз в пару дней, звонила Йоаву, но внезапно брат с сестрой перестали подходить к телефону. Иногда я набирала номер раз тридцать или сорок подряд, а живот мой от страха сжимало спазмами. Вернувшись в начале июля в Лондон, я застала дом на запоре, с новыми замками. В окнах всегда темно. Сначала я решила, что Йоав с Лией вздумали надо мной подшутить. Но дни шли, а от них не было никаких вестей. В конце концов мне ничего не оставалось, кроме как уехать назад в Нью-Йорк, потому что из Оксфорда меня к тому времени уже выперли. Но — несмотря на обиду и злость — я их искала. А Вайсы как в воду канули. Единственным знаком, что они еще живы, была посылка с моими пожитками — она пришла моим родителям через полгода по почте. Без обратного адреса.
В конечном счете я объяснила себе странную логику их исчезновения, поскольку именно этой логике меня обучали в те краткие семь месяцев, что я с ними жила. Пленники своего отца, они томились в заключении в стенах своей семьи, но никому, кроме отца, принадлежать, в сущности, не могли. Смирившись, я перестала ждать вестей и никак не думала, что увижу их снова. Ведь они бросили меня без оговорок, без оглядки, их не обременили условности, которые нас, всех остальных, мучили бы в такой ситуации. А тут — ни колебаний, ни сожалений, ни угрызений совести. Я стала просто жить дальше и влюблялась не единожды, но никогда не прекращала думать о Йоаве: где он, что с ним сталось?