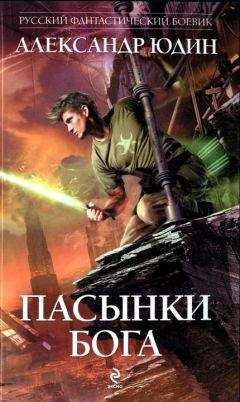Владимир Личутин - Миледи Ротман
— Сочиняй давай, пересмешница. Это вам влеготку. Будто в парилке похлесталась, жаром обдалась — и ступай от меня, Ванька, ауфвидерзеен. Разве нет? А нам каково? Отдай всего себя, не греши, да еще думай, так ли спроворил, сполна ли ублажил. Нет, крапивное вы семя, едучее, да и без царя в голове, живете одной лишь блажью. Все вам объясни, во всем потрафь, со всех сторон обложи ватою. Чтобы сквозняком не побило и чтобы не сопреть; чтобы морозом не ожгло и чтобы не прокисло. Капризная, Милка, у вас квашня: маловато дрожжец кинул, не так мучкой подмешал, мутовкой поленился сбить — и теста доброго не видать…
Ротман, уже забыв обиду, стремительно одевался. Он поглядывал в осколок зеркала и нравился сам себе.
— Ты опять меня обижаешь, — печально отозвалась Миледи. Растелешенная, она забыто сидела на задней грядке кровати в одной рубашонке, сбившейся высоко на лядвиях, и походила, сиротина, на ощипанную курицу. Мелкое голубоватое пшенцо высыпало на полных бедрах, и Миледи порывисто натирала ладонями гусиную кожу, доставая из нее утраченное тепло.
— Очнись, кто тебя обижает? — командно окрикнул Ротман, но так и не обернулся.
— Ты обижаешь. Все вы, мужики, скоты. Мы для вас то квашня, то ведро. Хоть бы одно приветное словечко из самого сердца. Ты же поэт. Роди хоть одно словечко. Какие дрожжи, какая мутовка? Ротман, ты меня утопить хочешь в словесном болоте…
— Дурочка, но не дура, не-е. — Ротман, облюбовывая себя взглядом, мстительно не оборачивался, томил жену, чтобы не обнаружить угрюмых глаз. — Я же поэт, у меня метафорический язык. Все так пошло кругом, все затаскано. Процесс пошлости углубился, как говаривал пошляк Горбачев. Хочешь, тайну зачина ребенка я объясню по-другому, и тогда малые неприятности ты простишь мне. Значит, сливаем энергию в резервуар, так? Мешаем мутовкой с такой скоростью, чтобы разомкнуть нужную молекулу и выстрелить в самое ядро. Все живое, мыслящее, милочка моя, рождается в вихре, в стремнине, в буеве, в водовороте, а в стоячем болоте плодятся лишь гады, букашки и таракашки. Ты хочешь иметь детей, так? Вот и старайся, угождай мужу во всем, переживи муку и тлен. Двое умных должны родить гения…. Собирайся, я подожду тебя на улице.
Выходя, Ротман оглянулся; Миледи плескалась в тазу, как утица. На повети Ротман пропел: «Эта птица не хочет плодиться, но будет стремиться, чтобы вскоре ссучиться».
* * *Ой, братцы, и то верно, что с радостью человек на людях, а с горем — наедине. Ну, брякнула, чертовка, ну, сорвалось с языка гадкое, с кем такое не случается в раздражении. Но как из головы выбить: «Я не хочу родить похожего на тебя…» В сердце — муть, в голове — язва, словно бы зубилом высекли: «Я не хочу родить дебила, похожего на тебя». Вот так бывает: подарят в почесть ларец, унизанный рубинами, от красоты глаз не оторвать; отпахнул крышку, а там — змея подколодная, и ну шипеть, и ну грозиться. И ларца жаль, и гадюки страшно; вот так и мыкайся со дня на день. Есть же на миру люди, что с такою проказою готовы смиренно жить во всю жизнь. Один мужик в Слободе держал в коробке скорпиона, выгуливал его по полу, кормил, учил премудростям. А ну как сбежит ночью, да в кровать, да сонному в подпятную жилу — вот страху-то!
Ротман притворил глаза, сквозь жесткие щелки едва ли видя белый свет; скулы его посвинцовели от проклюнувшейся щетины, будто нынче не скоблил рыла. Он шел размашисто, вразвалку, как матрос, отщелкивая каблуками по просохшим белесым половицам тротуара; ему было тесно на мостках, а ботинки жгли пятки. Руки он нес врастопырку, как борец на поединке, и встречному народу невольно приходилось смиренно огибать яростного человека. Миледи поклончиво тащилась сзади, словно овчушка на убой, и никак не могла подладиться под мужний шаг. Бедная, она уже и подзабыла случайный повод для ссоры, но, чуя свою ужасную вину, костерила себя за длинный язык. И как покорливая ягнушка, все приблекивала мужу в спину, показывая на мир: «Ваня, ты посмотри только, какой выпал денек», «Ваня, солнце-то нынче палит, будто лето», «Ваня, погуляем давай, гости-то никуда не убегут». Но бабьи заплачки безотзывно осыпались со спины мужа, точно сенная труха, и никак не могли пробить суконного пиджака, полотняной, сверкающей белизною рубашки и толстой ослиной шкуры, натянутой на хребтине от внутреннего напряжения, как на барабане…
А над головою-то синь разливанная. Братцы, бывают на северах после вешницы такие благодарственные дни, когда и в дом с воли неохота, и постели поклониться на ночь — будто нечаянной радости себя лишить. Воздух-то, кажется, звенит; нет, воистину тонко так погуживает на небесных свирелях, весь такой сладимый, родимый, отчий, пронизанный дымами от ближних кострищ на поскотине, где рыбаки смолят лодки к промыслу, нашивают свежие набои, ладят скамьи и выкатывают из воды первые дровишки, пойманные по большой воде. Еще и льды на бережине разлеглись, как грязные желто-белые коровы, а уже по горушкам прошила яркая зелень, и от нее, и от стремительных ручьев, и от свинцовой чавкающей няши в берегах, и от свежих опилков тоже тянет весенним неповторимым духом, на коем, как на дрожжах, и выбраживает неповторимый северный день. У мужиков рожи копченые, глаза изголуба-хмельные, какие-то расплывистые, будто бы приослепшие от случайно пойманной бабьей ласки, и пусть на один день нынешний, но вся хмарь куда-то прочь из груди. Словно бочки с пивом выкатили на улицы неведомые приказчики, и вот мужики наши причащаются даровым гостинчиком, не боясь себя испроказить. Серые с зимы изобки и те подрумянились в окнах, высветлились белеными наличниками, подбоченились, вздернули покруче грудастых коней на охлупнях. Хотя, братцы, чему веселиться-то? Да кончилась же зима обжорная, здравствуй, страда горбатая до поздних осеней…
И куда обида делась, за какие печати затворилась до времени? Нырь в темную запашистую норушку, притихла — и словно не была. Слагай, поэт, гимны, ибо только по веснам душа поэта распахнута настежь! И в голове Вани Ротмана зароились слова, затеялись строки. Звень-звень топоришком, вжик-вжик рубанком, чшиу-чшиу фуганком, а после-то наждачной шкуркою, да бархоткой, да слоистыми мозолями по нежному разогретому дереву:
Звени, наковальня, и, молот, бей!
Из кущ сиреневых вторь, соловей.
Из горнего неба
С буханкою хлеба
Придет усталый гонец
И вручит победный венец.
… Ай да Ваня, ай да Ротман, ну и сукин сын!
Ротман встряхнул головою, невольно замедлил размашистый шаг и засмеялся. Миледи споткнулась, припала к мужней спине щекою, потерлась о сукно пиджака, как кошка, и — о досада! — вдруг против воли сказала:
— Ваня, ты ошейник-то верни, он не к добру.
Ротман приоглох от стихов и бабьего вздорного совета не услышал. На углу Клары Цеткин стоял районный банк, приземистый каменный домишко времен царя Гороха, с толстыми, в метр, стенами, отчего зарешеченные оконца казались бойницами, за которыми, выставив ружья, притаилась свирепая охрана, скрадывающая разбойников. На облупившемся крыльце томился колченогий сторож Федя и от безделицы покачивал милицейской резиновой погонялкой; возле ржавого лица его вились невидимые мухи; отгоняя их, старик зажимал пальцем норку и гулко прочищал нос. Весь постный, утомленный скукою вид мужика уведомлял: иль деньги окончательно перестали завозить в банк, или все наличные с утра уже разбазарили по невозвратным кредитам. Напротив через улицу на избенке, смиренно поклонившейся банку, торчала зазывистая вывеска: «Магазин „Светлячок“. Маслов и К0». Новый русский купчик, неожиданно проросший на закате века из недр социализма, подточил его устои и сейчас похихикивал над затеями бедной немочки Клары. Сам мордастый лабазник с хеканьем разваливал сукастые еловые чурки, время от времени отставлял блескучий топор и, крутя рыжий потный ус, с неведомым гордоватым весельем посматривал то на груду сырых поленьев, то на невзрачный продуктовый ларь, то в извилистый, захламленный поленницами тупичок Клары Цеткин, чей покой во весь день не нарушила ни одна собака.
Ротман ухмыльнулся, завидев торговца, потянул носом: из двухэтажного дома, что высился за избою лавочника, решительно пахло жареной курицей. Там и жил банкир.
«Бутылек бы надо, — запоздало подумал Ротман. — Ведь нынче в гости с пустыми руками не ходят. А с другой стороны, если идти со своей бутылкою, то за коим дорогу мять? Можно и дома с Милкой выпить, а не шляться по гостям».
Он сверился с часами. Весь путь занял пятнадцать минут. Это не столица, здесь в гости можно каждый вечер похаживать.
Торговец воткнул топор в колоду, вытер пот с лица, поправил на животе фартук и уставился на случайных прохожих. Его доходное место с нетерпением поджидало покупщиков, а те отчего-то медлили.
— Надо бы шоколадку хоть взять, — прошептала Миледи, прочитав мысли мужа.
— От шоколада печень болит, — решительно отказал Ротман и втайне смутился, подивился своей внезапной скупости. И тут же утешил себя приговоркою: «У скупа не у нета, есть что взять».