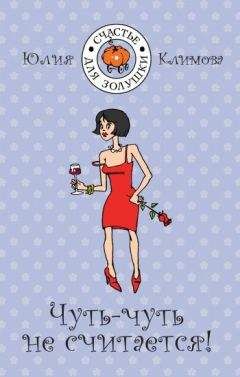Полина Клюкина - Дерись или беги (сборник)
— Дура. Перестань. Ты упадешь.
— Если судьба — упаду.
— Да, мой отец тоже так говорил.
Маша задерживает дыхание и передает папироску мужу.
— Они там все так говорили.
— И как его мать отпустила.
Артем затягивается, задерживает дыхание и молчит. Маша с разбегу прыгает на кровать, оставляя на матрасе ямы, и снова залезает на подоконник.
— А маме похер. Она себя страстно любит.
— А зачем же ей муж тогда?
— Чтоб был. Меня же бабка воспитывала, а не она. Бабка и отцу вместо жены была, он у нее жил. Помню, как-то рассказывала: однажды, мне тогда полтора года было, приходим домой, а на кровати отец спит; проходим дальше в комнату, смотрим — а под кроватью гранатомет. Отцу, оказывается, просто лень его сдавать было.
Тема снова затягивается, замолкает и выставляет два пальца. Через минуту он продолжает и протягивает косяк Маше:
— Прикинь, он дважды в какого-то урода целился, но тут же, короче, приходил приказ не стрелять.
— Почему?
— Вот и пойми попробуй. Ну, типа, это никому не выгодно.
— А зачем тогда его на работу взяли?
— Чтоб был.
Маша начинает звонко и беспрерывно смеяться, мотылек громко ударяется о лампочку, отлетает назад и снова повторяет попытку проникновения.
— А потом его выгнали, когда он автобус с людьми перевернул.
Родители Артема познакомились за пять лет до его рождения. Потом отца забрали в армию, и два года он писал маме письма: «Здравствуй, любимая! Что же со мной произошло! Выдали, наконец, мне носки и берцы, на призывном тоже выдавали, но совсем не такие, вообще неудобные, а эти удобные. Те, когда я приехал в часть, заставили меня выбросить. Пришлось прямо в портянках ходить, кстати, когда зима, в них гораздо теплее и мозолей меньше натираешь, но это только если правильно намотаешь. А потом нам в подразделении снова разрешили носки, а вот сапоги уже не достать было. А как твои дела? Скучаешь по мне? Всё будет хорошо. Жди солдата».
Поначалу все пассажиры дремали. Им снились молочные реки, кисельные берега, обетованная земля и обитель блаженных. Они ехали семьдесят километров в час, покачиваясь и пробуждаясь. Среди одинаково темного пейзажа наблюдали за тем, как полыхали нефтяные зарева. Эти факелы горели на буровых, будто огнедышащие драконы выясняли свои отношения. Днем и ночью в пурпурных отсветах кипели здесь эти схватки.
Затем окончательно наступила ночь. Коля впервые вез кого-то в темноте. Среди пассажиров были и дети, и они тихо посапывали, взрослые каноном храпели и успевали ворчать во сне.
Он мчался и не замечал, как один за другим просыпались люди, как мгла становилась рассветом. Ему казалось, он верил, что он один среди всего этого пространства, что он растворился в нем и завидел бесконечное зарево. Всплыли все воспоминания: о семье, о сыне. Самые яркие: как впервые вернулся из школы с расквашенным носом и не от боли плакал, как любимая встретила его из армии, кинулась ему на шею и, кажется, провалилась в обморок. Он вспомнил о жизни, которую прожил и еще не до конца. Всё это стало чем-то очень маленьким и неважным. Чем-то, что не могло сравниться с этим бесконечным заревом.
Следом за заревом Коля увидел свет. Желтый свет обыкновенной лампочки. Те же самые лица, одно за другим, появлялись и исчезали. Тонкое белое платье жены и черная кружевная косынка на ее голове, чей-то вой и детские всхлипывания. Голоса входили из коридора и проходили в комнату, смешивались, звучали, скрипели, давили и утопали в одном общем звуке. Звуке тишины.
Между стволами деревьев отдыхают от солнечного полудня волчьи ягоды. На вкус они чуть кисловаты, красные прожилки выдают их вязкость, а гладкая кожица — наличие яда. Все сухие ягоды летят в овраг. Там они сгнивают, смешиваясь с черноземом. Машенька держит на руках Мишеньку, рядом идет Артем. Они идут вдоль тропы, где растет металлическое ограждение. Оно защищает надгробья, у которых тоже есть свои имена, в быту гранитных мастерских называемые «ступенька», «плечики», «арка», «волна». Бабушку идут поминать. Давно померла, сразу, как узнала, что зять много людей угробил.
Итак, начались длинные суды, на которых Коля присутствовал, но давать показания отказывался. С повязкой на голове и шрамом возле пупка, он был невозмутим и спокоен. Заседание то удаляло, то возвращало в зал суда его жену, длилось около двух часов, хандрящие «кивалы» обсуждали, кто, где охотился и какая была добыча. Затем судья встал, чуть наклонился вперед и объявил Коле приговор, вспомнил, что не все жертвы еще опрошены, понял, что только в тюрьме подозреваемый не сможет оказать на них давление, отказал адвокату выпустить Колю под залог. Коля сидел тихо, вспоминал полыхания нефтяных зарев среди одинаково темного пейзажа, ругал огнедышащих драконов, что в пурпурных отсветах устраивали вдоль дороги схватки. Потом к нему подошла жена, поцеловала его в мокрый лоб и пообещала что-нибудь предпринять.
Жена его, Люся, первое время была вымышленным персонажем для сослуживцев. Она писала ему раз в неделю и ничего не обещала — ни совместной койки, ни тещи и ни детей, ни пятнадцати годов брака и уж тем более верности. Еле-еле, как сама рассказывала, дождалась, и чуть замуж за первого встречного-поперечного не вышла. Однако в обморок все же провалилась и лицо Колино ночью зацеловала.
У Люси были свои планы на жизнь. Она с завистью поглядывала на заграницу, на тамошних женихов, да и вообще на женихов. Она любила все самое лучшее, чтоб было не просто зарево, а чтоб бесконечное. Потому, наверное, Люся и была художницей. Полосы и полосочки сползали с ее мольберта, они напоминали тощих и жирных червяков. Цветные твари расползались по всей поверхности в разные стороны. Темный пол их квартиры был всегда усыпан листами белого ватмана, напоминал пятнистое туловище далматинца, словно пес был живым и кусачим. Левая сторона ее комнаты принадлежала чертежам — детальным проекциям башен-конусов. Правая — пестрым портретам, портретам ретушью и углем. Самой первой шуткой Коли над будущей женой был вопрос: «А ты художник от слова „худо“?» Тогда, довольный собой, Коля мягонько прикусил губу и хитро-хитро зажмурился.
Когда служить оставалось год, за Колей закрепили снайперскую винтовку. Тут же он опробовал ее на полигоне, а потом стал готовиться морально. Нужно было уложить в голове, каково это, стрелять исподтишка, по факту — поступать подло. Стрелять в того, кто не видит тебя, бить в голову или, хуже того, — в спину. Какая тут может быть справедливая бойня, когда ты не оставляешь шанса выжить врагу? Знаешь себе — цели отстреливаешь.
Так и остался Коля на пять лет службы, маскировался и выслеживал дичь. «Себя наконец нашел, такое ценить надо, — рассуждал Коля. — Есть стрелок, а есть снайпер. Оба вооруженные, однако солдата, у которого указательный палец на правой руке всегда при деле, который шустро соображает, — найти сложнее. Тут тебе и не всякий подойдет. А я подошел вот!» Люся сидела в приемной, готовая ко всему. Она собиралась уговорить прокурора отпустить мужа и даже не понимала, зачем он ей на свободе. Наверное, чтобы был.
Детский сад
Каждое утро здесь кто-то кричал. Радовался. Прямо за окнами находился детский сад, и все визги малышей, различные сопения и жужжания оказывались прямо в комнате. Звуки эти перемешивались с птичьим пением и лаем собак. От периодических криков и визгов «Мама, смотри!» прохожему тоже хотелось оказаться в песочнице и лепить пирожное из мокрого песка, стуча лопаткой по дну формочки.
Через пару домов стоял храм Кришны. Люди в простынях прохаживались по кривым улочкам и предлагали торты. По воскресеньям они устраивали шествия с пением молитв и заговариванием погоды, усаживали на пол и давали благотворительные обеды для стариков, кормили их кашей.
С наступлением зимы крики умолкали, и вся поляна за домом становилась черной — полынь высыхала и обретала оттенок падали. Деревья с каждым днем сливались с подтеками на старых пятиэтажках. Кришнаиты прятались в храме и пекли торты, орали на грязное небо: «Харе Рама — Харе Рама».
В приземистой «сталинке» неподалеку от храма в то время оставалось довольно мало жителей, однако и среди них находились старики. Две пожилые женщины жили через квартиру — в тридцать четвертой и в тридцать шестой. К одной из них приходила раз в месяц дочь, заполняла холодильник, выбрасывала из него нетронутое и сидела на кухне на табурете, напевая что-то себе под нос. Мать в это время вскарабкивалась на подоконник и долго-долго смотрела вниз. По ночам из двух квартир доносились похожие звуки, что-то среднее между стонами и детской истерикой. Иногда это походило на восторг, хотя откуда ему было взяться в квартире старого человека.
Этот поселок всегда был своенравным: тут тебе и кислотный завод, тут тебе и вечно удивленные метровой ботве дачники. Тут же и орава подростков возле ночного киоска с конфетами и водкой. Мало кто уезжал отсюда, все только рождались и подрастали, затем отсюда же попадали на кладбище.