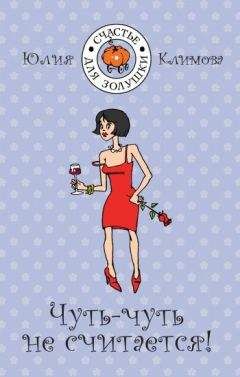Полина Клюкина - Дерись или беги (сборник)
«Эринния, Персефона!» Я наблюдал за ними с шифоньера, куда забирался с утра, и ждал этих сборов, пытаясь предугадать, каким заковыристым словом сегодня баб Галя благословит маму. Тогда я не очень-то понимал значения этих имен, да я и сейчас не очень-то понимаю, однако я точно знал — они могли быть только хорошими, и мы все тоже хорошие.
Когда я окончил девять классов, я приготовился поступать в строительный техникум. Но тут мать неожиданно объявила о переезде в другой район города, откуда ближе было ходить в школу. Называли район по-разному: кто Мотовилиха, кто Промкомбинат, но суть оставалась одна — неблагополучный кусок Пермской земли. Все дома на Промкомбинате походили на зеленовато-белые поганки, рослые и растущие в редколесьях, стояли на склонах по обеим сторонам дороги, на холме, в яме. Сложнее всего приходилось тем, кто пытался здесь держать скот или выращивать картошку. Если смотреть на все это из окна — картина покатой горы оживала, и это напоминало немое кино. Я же ощущал себя тапером.
Мы поселились в бревенчатой избе возле трассы, точь-в-точь обиталище всех наших родственников, и теперь нам оставалось только начать укладывать волосы на правый пробор. Раз в пять минут здесь останавливались автобусы. Вереницы прохожих ходили мимо нашей лачуги на свой завод и с любопытством вглядывались в окна. Потом они отрабатывали смену, снова проходили мимо и снова смотрели. Так они делали ежедневно, до тех пор, пока однажды их не сменяли следующие.
В однокомнатной избе мне сразу отдали угол между печью и стенкой, втиснули между ними кровать и миниатюрную отцовскую тумбу. А на следующий день после переезда отправили в гимназию. Как будто мама все рассчитала с точностью до минуты: уборка закончилась в тот момент, когда пора было собираться на первый урок. Баб Галя сразу вытащила из отцовских комодов (мы всегда перевозили за собой его вещи) галстук-бабочку и так его накрахмалила, что крыльями это насекомое впилось мне в шею. Словом, я был собран как никогда.
До самой зимы восемьдесят седьмого я казался себе новичком среди Пущиных, Дельвигов и Кюхельбекеров. Все это время старался понять, почему гимназия с физико-математическим уклоном носит имя Пушкина и что я вообще здесь делаю среди юных пентюхов, обед занюхивающих ментоловым табаком. А потом наш директор возродил традицию Пушкинских балов, и первый же вечер, сблизившись с одноклассниками и одноклассницами, мы не только стали занюхивать обед табаком, но и запивать его, если везло, самогоном.
Мы встретились в раздевалке, когда я старался избавиться от инея на ресницах, нечаянно выдергивая их одну за другой, а она на секунду подошла к зеркалу и посмотрела мне прямо в глаза. Рита. Красивая. Красивее всех, кого я встречал раньше. У нее было дорогое кашемировое пальто, украшенное чернобуркой и круглыми пестрыми пуговицами. Стянув его, Рита в спешке накинула его на крючок и, не заметив оборванной петли, пошла в класс. Оно упало, как только Рита перешагнула порог раздевалки, уронило за собой десять килограммов чьих-то уродливых шкур, затем почему-то на меня заорала гардеробщица, и я стал подбирать одежки и был готов подбирать их до бесконечности, до самого окончания всех уроков.
А потом начались бессонные месяцы, когда мы с Риткой приходили в гимназию за час до уроков, усаживались в каморке сторожа дяди Гриши, обжимались и целовались все это время. За семь месяцев я ни разу не проспал наших свиданий, я ничего не рассказывал матери, и только бабушка была свидетелем моих бодрых подъемов. Я догадывался, что одобрение матери мы вряд ли получим — она была не из тех женщин, что славили нежности. Мама была выше и сильнее всяких там чувств — не терпела поэзии и болтовни о писателях, которую так любили мы с Ритой. Наверное, именно потому я учился в физико-математической школе. Когда Бродскому дали Нобелевку, мать вошла ко мне в комнату и уселась меня пытать: «За что, сын, за что ему дали премию? Отец твой всю жизнь на страну горбатился, а ему ведь и зарплаты сраной не дали так просто!» Но мне, если честно, было глубоко на это плевать. Со временем я заметил, что больше не жду папу. Нынешняя жизнь куда лучше прежней, а Ритка, моя Ритка, уже занимала все мое свободное время, голову и, пока мамка была на работе, даже койку.
Как-то утром, когда будильник уже готовился к моему свиданию, в дверь постучал отец. Тогда я и понял, почему вот уже третий день мать моет наш «новый» дом и пришивает оборки к своему дырявому халату. Как рассказывал папа, в тот октябрьский день кто-то объявил об освобождении моего отца из тюрьмы, а вместе с ним и ста сорока политических диссидентов.
На протяжении трех суток скрипела калитка: к отцу приходили друзья, литрами пилась водка, десятками «чпоков» раскупоривались соленья. Я возвращался вечерами и сразу же закрывался в комнате. В то время мы с Ритой много прогуливали, точнее, не много, а все без разбора занятия, мы посвящали эти веселые дни себе. Нашим любимым местом стал небольшой музей на Восстания. Вела к нему бесконечная тропка, затем бесконечная лестница, где на каждой ступеньке мы останавливались для поцелуя. И, наконец, достигнув-таки верха, неслись покупать билетики у тучной старушки. Казалось, она сидела там с событий девятьсот пятого года, и потому сама уже мало чем отличалась от выставленных оборонных пушек. Посетители заходили редко, раз в неделю в лучшем случае наведывался какой-нибудь класс, играл в войнушку, громко гоготал над подбитыми заводчанами, и спустя час все уходили и оставляли нас с Ритой снова одних. Эта панорама стала для нас самым красивым местом наших свиданий. Я обнимал хрупкую Ритку среди окровавленных картонных тел и казался себе отчаянным «красным» героем.
«На всё воля Божья, сынок, — кряхтел папа, — и если судьба, то вы с Маргаритой потом встретитесь». И тут же следом отец сказал, что мы уезжаем в Красноярск за новой жизнью. Потом он долго и красочно нам обещал, что в новой жизни не будет покатых склонов с ботвой, не будет грохота пазиков по утрам, не будет старых врагов и баб Гали.
— Я не поеду.
— Как не поедешь? А как же я, как же мамка?
— А баб Галя, за что ты ее?
— Баб Галя довольно на нас погорбатилась, пускай для себя хоть пару лет поживет.
— Ну и я тогда с ней останусь!
В тот день я принял первое в жизни решение самостоятельно и, как мне казалось, тут же стал старше лет на десять. Однако никаких десяти не было, и я продолжил походить на соседского теленка, который падал с покатой горы всякий раз, как выходил попастись.
В тот вечер я пришел к Рите. Она ждала меня там же, грела ручонки около Вечного огня и, чуть зажмурившись, растирала пальцы.
— У меня новость: отец собрался переезжать.
— А ты?
— Я пока не знаю.
— Ну и вали! Вперед! Только вперед!
— Чего ты?
— А ничего.
Домой я вернулся за полночь. Обошел всю округу за сорок минут, прошелся вдоль тюремной колючки, которая, кажется, тянулась через весь город. Я снова увидел всю нищету и траур этого города, каждый его изъян и вечно скорбящих людей. «А днем зеков, наверняка, выпускают гулять», — думал я, глядя на побеги жирной проволоки.
Когда я вернулся, папа еще не спал. Он ликующе просматривал мои дневники за все те годы, что он отсутствовал, ставил свои подписи рядом с мамиными и тут же, довольный, запивал это занятие водкой.
— Сына, учиться надо лучше. Образование — это важно!
— Хорошо, пап, я буду учиться лучше.
— И надо тебе ехать с нами.
— Ладно, пап, я поеду.
— То есть согласен?!
— Ага.
Как легко, оказывается, самому шагнуть в «новую жизнь»…
В Пермь я вернулся гораздо позже. Спустя пару десятков лет на похороны баб Гали. Она превзошла отцовские ожидания и прожила больше пары годов, на что папа сказал: «Да, сыночка, мы предполагаем, а Бог располагает». За двадцать лет ее каштановые волосы на правый пробор стали совсем пепельными. Умерла баб Галя на скамейке возле дома.
Площадь Восстания никуда не делась, и панорама сохранилась. Пушкинские балы продолжали сближать пентюхов с табаком, а телята всё так же валились с горок.
Риту я никогда больше не видел. Да и зачем оно мне — не знаю.
Одно знаю наверняка — я не терплю никаких фантазий, старья, родственников, немое кино, этот скорбящий город…
Черт возьми, я не терплю, когда на все воля Божья.
Танюшка
На всей земле у него было только два дорогих существа: его собака Юнгур и Танюшка. Матерился он не по-божески, пил водку, как сволочь, шесть литров за два дня, никогда не пьянел, спал по четыре часа в сутки. Все остальное время он выходил на лестничную клетку, встречал соседей и рассказывал им, как любил ее тридцать лет и как до сих пор любит. Она выходила за ним, тоже встречала соседей, маленького Гришку с санками, тетю Тамару из тридцать второй. Он сжимал кулаки и скрипел зубами, когда Гришка взбирался к ней на руки, отталкивал Гришку, хватал ее и прижимал к себе: «Не трогать! Это моя женщина!»