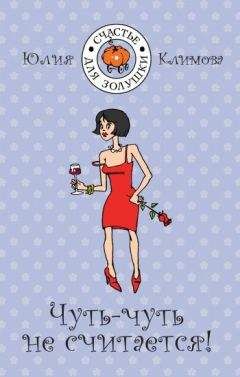Полина Клюкина - Дерись или беги (сборник)
Этот поселок всегда был своенравным: тут тебе и кислотный завод, тут тебе и вечно удивленные метровой ботве дачники. Тут же и орава подростков возле ночного киоска с конфетами и водкой. Мало кто уезжал отсюда, все только рождались и подрастали, затем отсюда же попадали на кладбище.
Софья Павловна прожила тут всю жизнь и вряд ли представляла себя сидящей на какой-нибудь другой лавочке, в другом районе или в другом городе. Ее дежурным местом стал щербатый стул у окна, где она уже мало чего видела и мало кого ждала, зато ее силуэт в окне на фоне зеленоватых обоев стал главной частью этого пейзажа. Ничего не менялось в ее жизни вот уже десятки лет, но последний год она стала ежедневно где-то пропадать. Первый уход случился, когда однажды дочь решила обновить ее жилище, спасти маму от бесконечных подтеков под подоконником. У матери началась истерика, когда немецко-фашистский пластик заменил крашеное раз в десятилетку окно. Пустой и беззвучный пласт сменил ее привычный и звонкий подоконник — не было больше боя дождевых капель, стука воды, когда соседи сверху развешивали сушиться белье. И на минуту ей показалось, будто дождь барабанит по глухой деревянной поверхности ее гроба, ей сухо в нем, и всё вокруг ладно, красиво, бархатно.
— Мам, дыши еще две минуты, и я закрою. Идти надо.
— Иди, а я танцевать пойду.
Софья Павловна опустилась на колени и ладони ее стали быстро-быстро биться об пол. Откуда были у нее силы на такие удары — оставалось загадкой, ровно как и то, что значили эти разговоры о танцах. Это был полый, пустой звук, такой же издавал ее новый пластик.
— Не уходи-и-и-и-и-и! Ли-и-и-и-и-илька!
Она то подымалась, то опускалась обратно на колени и неистово дергала дочь за подол.
Зато у Любы Герман была совсем другая старость. Когда-то она ходила в полковничьих женах, а после смерти мужа стала ходить в доме для престарелых и перестарелых. Тут все делились на два разряда, одни получали прогулки, другие — нет, и потому куда разумнее было изобразить нормальную и уехать домой.
Вскоре она и сама поверила, что ей всего лишь пятнадцать, и тогда она снова стала ждать встречи с будущим мужем Павлом Сеечем. История ее старости была заполнена разного рода подробностями, о которых никто из соседей не знал, зато все поздравляли ее в день рождения, когда ей снова исполнялось двадцать. Наверное, именно поэтому зеркал в этой квартире не вешали, были только лакированные трюмо и тумбочки, которые отражали двадцать.
Любу не очень-то уважали соседи — во-первых, она была не в меру зажиточной «старушенцией» и хранила в шкатулке какие-то камушки, нитку аквамаринов и серьги, сапфировые резные розочки. Еще там лежал маленький отколовшийся цветок от колье, бусинки со свадебного наряда и мелкий-мелкий обмылок в пять сантиметров росту. Шкатулочку она берегла как живую и каждый день проверяла ее сохранность, постоянно, и когда муж был жив, и теперь, когда мужа во второй раз не стало. Ни с кем она никогда не делилась даже воспоминаниями и только сама про себя знала всю правду. Она знала, что сейчас она государственная жена. Раз в неделю обязана отворить дверь прислуге с ведерками, раз в неделю упаковать Сееча: парадные брючки цвета морской волны с лампасами крапового цвета. Снять аккуратно с вешалки галстучек и проследить, чтоб оставался как лезвие. Ну и конечно, не забивать голову Павла Сееча мелочами.
Вечер случился тихий, с легким паданьем снега, видимым лишь под фонарными столбами. Начался вечер где-то в половине шестого с момента, когда кто-то из соседей заметил, как одинокая старуха справлялась с сугробами, перешагивала их и что-то все причитала.
— Стойте, где вы живете?
— Мыть надо школу, а потом к Лильке. Одна она дома.
— Да стойте же вы, покажите, где вы живете?
Старуха начала тыкать пальцем в обросшие инеем пятиэтажки, одну за другой, и крутиться вокруг себя, вертеться по сторонам. Затем она вырвала ситцевый рукав из чужой варежки и пошагала вперед. Подолы ее запутывались в сугробах, тапки скользили по льду и тут же проваливались. «А вот тут она всегда подпрыгивает, — радовалась Софья Павловна, — любит она у меня качели. Как усядется да как заведет „Покача-а-ай! Ну один разок всего!“ А горка, да будь она… Раньше же как было — на шубе и до самого низу, а сейчас? Опасно стало, машин много нынче. Они же несутся и не глядят. Так я Лильку крестить стала перед выходом, „Харе Рама“ говорю, „Харе Рама!“»
Софья Павловна воспитала Лильку в одиночку. В сорок шестом ее мужа объявили без вести пропавшим и только спустя десятки лет его обнаружили в числе четырехсот пятидесяти тысяч перемещенных советских, которые так и не вернулись с войны. Нелегко было, но усядется, бывало, на пол, Лилькину голову на колени уложит, и уже хорошо. Так и жила, пока дочка не выросла и не съехала от нее.
— Куда?!
— Так танцевать пора, мил человек!
Когда прохожий проводил Софью Павловну до дома и отворил ей незапертую дверь, навстречу ему вышел сладкий знакомый запах. Ванильный и очень добрый. Аромат этот источало огромное цветастое изображение божества Кришны на стене. Его источала серая светящаяся девочка на камне и крошка-теленок, облизывающий ей ладони. Эти ладони не видывали русских войн, не видывали парадных брючек цвета морской волны, сапфировых резных розочек, зато они знали свое. Резную раковинку, полумесяц, булаву, наконечник копья, свастику и, главное, чакры. Все это было на кончиках пальцев, умещалось в ладонях всего одного божества.
— Харе Рама, проводил, мил человек, благослови вас Харе Рама!
Вечер случился тихий, с легким паданьем снега, заметным лишь под фонарными столбами. С редкими прохожими на протоптанных тропах. Начался он где-то в половине шестого с того момента, когда Люба Герман впустила к себе гостя:
— Вечер добрый! Вы женщину из соседней квартиры знаете?
— Кого? А где Павел Сееч?!
На лестничной площадке звонко ударилась дверь. По ступенькам спускалась Софья Павловна. Спускалась спешно, накидывая поверх намотанной простыни шерстяной плед, укутывая голову толстой шалью. Она что-то шептала себе под нос и даже тихонечко напевала. Старуха бежала босой по снегу, размахивала руками, неслась, гонимая одной единственной мыслью — перед выходом она опять забыла перекрестить дочь.
Сырки
Первой родилась Галя. Самостоятельной она стала еще в зародыше, в тот самый момент, когда в материном брюхе начала запутывать и распутывать живые петли. Молодой маме врачи сразу определили обвитие пуповины и тут же, не отходя от кушетки, посоветовали становиться на карачки и стоять по двадцать минут в день. До пузырей она натирала колени о войлок паласа. Так и проходила всю беременность — в тревоге, на четвереньках — до самого отхода вод.
Со временем эта история утратила ценность — спасенная малютка быстро окрепла, у нее появились свои синяки. И теперь только хитрый бомбажный пупок напоминал ей о родственной связи с матерью.
Галя сидела на том же табурете, что и всегда. Приземистом, обитом в восемьдесят седьмом голубым гобеленом, в восемьдесят девятом облитом воском во время первого рождественского гадания. В ту ночь они нагадали себе хороших мужей: во-первых, богатых — в саду у них будут расти красивые яблони, во-вторых, добрых — они откроют приют для собак, и, в-третьих, мужья обязательно будут дружить. Двумя семьями они построят огромный дом и назовут детей одинаковыми именами.
Со скрипучими ножками и сломанной поперек рейкой, табурет этот был необходимым атрибутом их бесконечных игр. Когда несколько стульев и одно оборонительное кресло накрывались одеялом, всегда наступала его пора. Это он, опрокинутый набок, завершал крепость, пускал в шалаш свет и не пускал врагов.
— А вдруг Вера не нашла дом? — почти со стоном спросила Галя.
— Нет, — отвечала тетка, — Вера дорогу знает, к тому же ее всегда кто-то водит.
— А вдруг они вместе заблудились, а потом их встретил по дороге маньяк и изнасиловал?!
— Боже мой, детка, ты откуда таких ужасов понахваталась? — и тут тетка всплескивала руками и краснела.
— А что тут такого, обычное дело.
— Нет, с ними всё хорошо.
— Тогда позвони еще.
Тетка подтянула к себе телефон и снова повторила прежний набор.
— Нет. Не отвечают. Завтра давай.
Вот уже несколько часов они ждали Веру. Ждали ее на пороге квартиры, выглядывали по сторонам и прислушивались к шагам. Ждали на улице.
Одну за другой Галя сжигала осиновые спички. Как только огонь пробегал серную головку, она тут же звучно их задувала. Балахонистые взрослые наряды, потертая кроличья шуба, чинная каракулевая шапка-кубанка и замшевые сапоги с широким раструбом делали ее фигуру приземистой и громоздкой.
Вернувшись домой, Галя схватила тетку за вафельный подол, уселась на пол и поставила рядышком телефон: «Теть, ну позвони в интернат, ну позвони…» После семи гудков тетка повесила трубку, взглянула на часы и повела Галю на кухню.