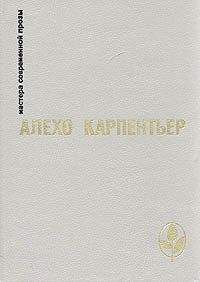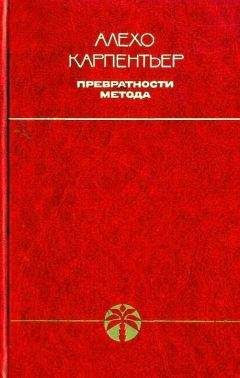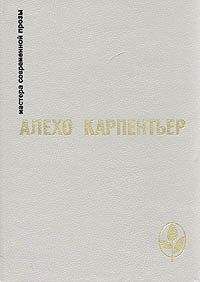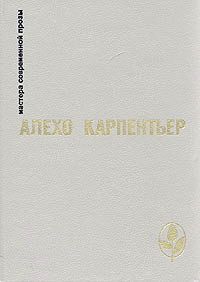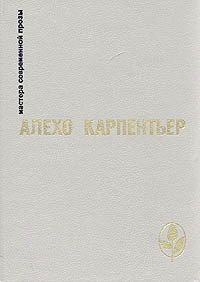Алехо Карпентьер - Избранное
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Я тех видений страшился,
Но вот я узрел другие —
И был устрашен стократно. [128]
I. Статуи в ночи
Руки мадемуазель Атенаис бегали по клавишам недавно купленного фортепьяно; позвякивая браслетами и брелоками, она аккомпанировала сестрице Аметисте, которая жидковатым голоском выводила арию из «Танкреда» Россини, разливаясь в томных фиоритурах. Королева Мария Луиза в белом капоте и фуляре, на гаитянский лад повязанном вокруг головы, вышивала покров, предназначавшийся в дар монастырю капуцинов в Пизе, и журила котенка, гонявшего клубок шерсти. После трагических дней казни дофина Виктора, после отъезда из Порт-о-Пренса, ставшего возможным благодаря заступничеству английских коммерсантов, прежних поставщиков двора, впервые за все время жизни в Европе принцессы почувствовали, что лето действительно похоже на лето. Рим жил, распахнув двери настежь, и под ярким солнцем мрамор палат и статуй казался ослепительнее, крики торговцев прохладительными напитками — звонче, смрад монашеских ряс — острее. Все десять сотен колоколов Вечного Города с непривычною томностью перезванивались под безоблачным небом, напоминавшим небо Равнины в январе. Наконец-то Атенаис и Аметиста снова наслаждались теплом, обливаясь потом, студя босые ступни о плиты пола, расстегнув крючки юбок; они проводили дни за игрою в гусек, за приготовлением лимонадов либо рылись на полках этажерки, перебирая ноты модных романсов, изданные в новейшем вкусе, в обложках, украшенных гравюрами на меди, на которых изображались кладбища в полночный час, шотландские озера, сильфиды, порхающие вкруг юноши-охотника, девицы, опускающие любовное послание в дупло старого дуба.
Солиман также чувствовал себя счастливым в летнем Риме. Когда он впервые появился в населенных простонародьем кварталах — на улочках, где от развешанного белья стояла влажная духота, а ноги скользили на капустных листьях, гнилых объедках и кофейной гуще, — там поднялся настоящий переполох. Самые слепые лаццарони мгновенно прозрели и во все глаза разглядывали негра, позабыв про свою мандолину либо органчик. Прочие представители нищей братии неистово размахивали культями, выставляли напоказ все свои традиционные язвы и лохмотья, полагая, что перед ними посол какой-то заморской державы. Теперь, куда бы ни шел Солиман, за ним гурьбой бежали ребятишки, величая его волхвом Валтасаром [129], дудя в дудки и гремя трещотками. Трактирщики потчевали его вином. Завидев его, ремесленники выходили из своих мастерских-лавчонок, совали ему кто помидор, кто пригоршню орехов. Давно уже на фоне фасада Фламинио Понцио [130] или портика Антонио Лабакко не чернел подлинно негритянский профиль. А потому Солимана частенько просили поведать его историю, каковую он расцвечивал всяческими небылицами, вроде того, что он-де — племянник Анри Кристофа и чудом спасся в ту ночь, когда в Капе началась резня, а одного из королевских бастардов солдатам карательного взвода пришлось прикончить штыками, потому что, сколько в него ни стреляли, пули были ему нипочем. Простофили, что слушали его развеся уши, не знали толком, где совершались эти события. Одни полагали, что в Персии, другие — что на Мадагаскаре, третьи — что в краю берберов. Когда на коже Солимана проступал пот, всегда находились пытливые наблюдатели, которые отирали ему щеки платком, проверяя, не линяет ли негр. Как-то вечером шутки ради его привели в один из тесных и зловонных театриков, где даются комические оперы. Когда отзвучала финальная часть истории, повествовавшей о злоключениях итальянцев в Алжире, его вытолкнули на подмостки. Неожиданное появление Солимана вызвало в партере такую бурю восторга, что антрепренер труппы предложил ему посещать их театр бесплатно и выходить на сцену всякий раз, когда ему заблагорассудится. Вдобавок Солиману выпала любовная удача, у него завязались шашни с одной служанкой из Виллы Боргезе [131], пышнотелой пьемонткой, которая не жаловала худосочных мужчин. В самые знойные дни Солиман обычно уходил на Форум, где всегда паслись стадами овцы, и там он подолгу спал в траве. Развалины отбрасывали мягкую тень на густую зелень, а немного покопавшись в земле, можно было найти то мраморное ухо, то резной камень, то потемневшую от времени монетку. Случалось, сюда забредала гулящая девка с семинаристом, занималась на мягком дерне своим ремеслом. Но чаще сюда наведывались люди ученые — священники под зелеными зонтиками, англичане с холеными руками — восторгались обломком колонны, списывали стершиеся надписи. В сумерках негр с черного хода пробирался в Виллу Боргезе и знай себе откупоривал бутылки красного в компании пьемонтки. Особняк, впрочем, пришел в крайнее запустение из-за отсутствия хозяев. Фонари при входе были засижены мухами, ливреи засалены, кучера вечно пьяны, карета облезла, а в библиотеке, это знали все, развелось столько паутины, что туда годами никто не заглядывал, боясь ощутить омерзительное прикосновение паучьих лап на затылке, а то и за корсажем. Если бы в одной из верхних комнат не жил молодой аббат, племянник князя, челядинцы давно перебрались бы в покои бельэтажа и спали бы на старинных кроватях кардиналов.
Как-то ночью, в поздний час, когда на кухне оставались только Солиман и пьемонтка, негр, хватив лишку, пожелал осмотреть всю виллу. По длинному коридору пьемонтка вывела его в просторный внутренний двор, выложенный мраморными плитами, которые в лунном свете казались голубоватыми. Двойной ряд колонн шел вдоль всего двора, отбрасывая на стены тени капителей. То поднимая, то опуская фонарь, с какими жители Рима ночью ходят по улицам, пьемонтка явила взгляду Солимана царство статуй, заполонивших одну из боковых галерей. Все статуи изображали женщин, и притом нагих, хотя все почти прикрыты были легким флером, который под дуновением воображаемого ветерка ложился так, как того требует благопристойность. А еще Солиман увидел много зверей и птиц, ибо дамы эти то обвивали руками шею лебедя, то обнимали быка, то бежали со сворой борзых, то спасались от козлоногих людей с рожками, которые, верно, приходились сродни самому дьяволу. Это было царство холода, белизны, неподвижности, но тени статуй в свете фонаря вытягивались, оживали, словно все эти существа с глазами без зрачков двигались хороводом вокруг полуночных гостей, глядя на них невидящим взглядом. С пьяных глаз частенько мерещится всякая нечисть, и Солиману почудилось, будто одна из статуй чуть повела рукой. Ему стало не по себе, и он потащил пьемонтку к лестнице, которая вела наверх. Теперь вокруг были картины, и они тоже, казалось, отделялись от стен и оживали. То перед Солиманом возникал юноша, с улыбкой отдергивающий занавес, то увенчанный виноградом отрок подносил к устам безмолвную свирель либо прижимал к ним указательный перст. Миновав галерею с зеркалами, стекла которых украшала роспись масляными красками, изображавшая цветы, горничная с плутовской ужимкой отворила узкую дверь орехового Дерева и опустила фонарь.
В глубине небольшого кабинета была одна только статуя. Статуя совершенно нагой женщины, которая покоилась на ложе, Держа в руке яблоко и словно протягивая его кому-то. Пытаясь совладать с хмелем, Солиман неверными шагами побрел к статуе, от изумления сознание его, помутненное винными парами, несколько прояснилось. Это лицо было ему знакомо, и тело, тело тоже напоминало ему о чем-то. В тревоге он стал ощупывать мрамор, словно вглядываясь, внюхиваясь в его поверхность осязающими кончиками пальцев. Потрогал груди, обхватив их снизу ладонями. Провел рукою по животу, задержав мизинец во впадине пупка. Погладил мягкий изгиб спины, словно собираясь перевернуть изваяние на другой бок. Пальцы его искали округлость бедер, мягкость подколенной впадины, упругость груди. И движения его рук разбудили память, вызвали образ давно минувших лет. Он не в первый раз касался этого тела. Он уже растирал эту щиколотку, таким же точно круговым движением унимая боль от растяжения связок. Тогда под пальцами у него была плоть, сейчас камень, но очертания были те же. Теперь ему вспомнились полные страха ночи на острове Ла-Тортю, когда за запертыми дверьми предсмертным хрипом хрипел французский генерал. Вспомнилась та, которой он должен был почесывать голову, убаюкивая ее. И внезапно, повинуясь властному зову чувственной памяти, Солиман стал массировать каменное тело, проводя ладонью по мышцам, по сухожилиям, растирая спину от хребта к бокам, пробуя большим пальцем упругость груди, выстукивая мрамор костяшками пальцев. Но холод камня передавался коже рук, и негр вдруг замер, ощутив, что запястья его цепенеют, словно их зажала в тиски смерть, и он закричал. Вино снова ударило ему в голову. Статуя, желтоватая в свете фонаря, была мертвым телом, перед ним был труп Полины Бонапарт. Труп, только что остывший, только что утративший трепет и зрение, может быть, еще возможно вернуть его к жизни. Негр кричал, кричал во всю мощь своего голоса, словно грудь его разрывалась, и отчаянные крики гулко отдавались по всем обширным покоям виллы Боргезе. И таким дикарским стало его лицо, так загрохотали по полу каблуки, превращая в барабан перекрытие меж кабинетом и находившейся под ним часовней, что пьемонтка в страхе скатилась вниз по лестнице, оставя Солимана наедине с Венерой Кановы [132].