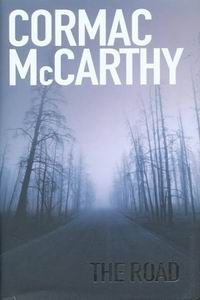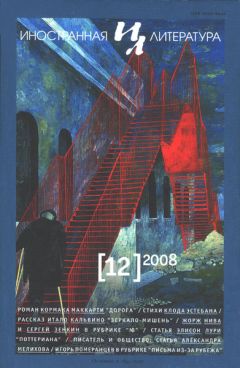Дзюнпэй Гомикава - Условия человеческого существования
Похвастав поднять добычу на двадцать процентов, Окадзаки уже две недели лез из кожи, чтобы не уронить «слова мужчины», данного им в директорском кабинете. Механизмов не хватало. Окадзаки перегнал рабочих в забои с наиболее благоприятными условиями, где почти не требовалось подготовительных работ. Он свирепо вращал глазами, щелкал хлыстом, остервенело нажимал на подчиненных и гнал добычу, совершенно не считаясь с правилами безопасности. Кровлю крепить не успевали, штреки до нужной ширины не доводились, он кричал и хлестал плеткой, гонял рабочих с места на место. Начальник участка с опаской поглядывал на зверское усердие своего помощника, но сдерживать его побаивался. Так или иначе, дикое упорство Окадзаки и общая атмосфера возбуждения и горячки, порожденные штурмом («двадцать процентов!»), свое сделали, и ценой отчаянного напряжения добычу удалось поднять почти до намеченного уровня. Окадзаки теперь сидел в штольне до поздней ночи.
Рабочим на его участке приходилось туго. За малейшее промедление нещадно избивали. Изнуренные люди теряли силы, тупели, внимание ослабевало, непрестанно росло число мелких увечий.
… С каждой новой рапортичкой о ходе добычи в забоях, которую ему приносили теперь ежечасно, раздражение Окадзаки нарастало. Если так будет продолжаться, дневной план сегодня провалят.
Окадзаки приказал передать по всем забоям, чтобы «поднажали», а сам отправился по особенно ненадежным бригадам. Раздраженный взгляд видел всюду распущенность и лень. Ему казалось, что только он один тянет бремя забот о добыче, а остальные и в ус не дуют. Отдел рабсилы — бездельники! Им бы только сунуть в штольни положенное число рабочих, а как они там работают — им наплевать… А механизаторы, ремонтники! Пока кончат с наладкой, охрипнешь от брани! Все, что Окадзаки видел вокруг, все, к чему прикасался, вызывало в нем сегодня только ярость. Он уже и сам почувствовал: если в очередной рапортичке снова мелькнут красные цифры недовыполнения, он взорвется. Надо подстегнуть, пока не поздно, не то придется и сегодня застрять на вторую смену и орать до хрипоты.
Спецрабочие — их отличали по красным биркам на шеях — катили навстречу Окадзаки вагонетки с рудой. Колеса скрипели тягуче, жалобно и, как показалось ему, лениво. Он остановился и принялся подгонять откатчиков. Стремясь поскорее протолкнуть свою вагонетку мимо начальства и уйти с его глаз, откатчики разогнались почти бегом. Отведя душу, Окадзаки двинулся дальше, но по глухому лязгу железа за спиной и внезапной тишине вслед за этим понял, что весь поезд остановился. Он кинулся назад. Откатчик головной вагонетки хрипел, уткнувшись лицом в землю. Под тусклым светом рудничной лампы полуголое костлявое тело сливалось с породой под ногами. Окадзаки рассвирепел. Этого он как будто и не хлестнул ни разу! Хрипит, разжалобить хочет! Ну ладно, он заставит его наверстать потерянное время. И Окадзаки с размаху опустил плеть на костлявую спину. Рабочий дернулся, застонал. Окадзаки снова ударил. Он продолжал бы его хлестать до тех пор, пока тот не встанет или не испустит дух. Но от спецрабочих, сбившихся в кучку, отделился один, пошатываясь, подошел к Окадзаки и остановил его руку. Голая грудь с резко выпирающими ребрами вздымалась, как кузнечные меха, часто и тяжело…
— Господин, это больной. А если умрет?
Окадзаки круто повернулся. За долгие годы службы на руднике он привык только к покорности рабочих. Никто никогда не осмеливался остановить его руку.
— Что?! — заревел он, весь во власти слепого гнева. — Больной? Пусть жалуется на свои болячки Кадзи!
Схватив с вагонетки кусок породы, он швырнул его в лицо смельчака. Тот свалился как подкошенный. Окадзаки подлетел и ударил его ногой.
— Зарубите на носу — я не из того рыхлого теста, как те растяпы из отдела рабсилы, — рычал Окадзаки. — Я сотню таких как вы, прикончу и глазом не моргну!
Смолкло раскатистое эхо, в штольне снова наступила тишина, только капли воды с кровли звонко падали в лужи.
31Через канаву, отделявшую окраинную улочку от поселка, был перекинут хлипкий мостик. Сразу за ним стоял «веселый дом» для рабочих рудника.
Три женщины сидели на перилах.
Та, что первой увидела его, дала знак подругам, и, спрыгнув с перил, женщины преградили ему дорогу.
Кадзи заколебался. Может быть, все-таки не ходить?
Десять дней он тянул с выполнением этого гнусного распоряжения. Но сегодня по телефону директор уже официально напомнил, что это приказ, и потребовал его немедленного исполнения. У Кадзи создалось впечатление, что директору хотелось не столько ублажить спецрабочих, как укротить строптивого подчиненного.
Стараясь глядеть в сторону, Кадзи торопливо пересек мост. Его смущение забавляло женщин. Одна из них вдогонку Кадзи стала распространяться о своих прелестях.
Кадзи прибавил шагу и, подавляя желание грубо прикрикнуть на них, скрылся в дверях «заведения». Помещение напоминало спальный вагон. По обеим сторонам коридора — кабинки с занавесками вместо дверей. Кабинки с откинутыми занавесками были свободны. Опущенная занавеска означала, что в кабинке гость. Из глубины коридора выплыла содержательница мадам Цзинь. Грубый грим очень портил ее еще недавно красивое лицо. У мадам Цзинь были отяжелевшие формы и выражение делового достоинства на лице.
Скрестив на груди полные, мягкие руки, она улыбалась Кадзи и на плохом японском приветствовала его, заявив, что такого гостя она примет сама.
— Без денег! Господин Кадзи большой паек дает.
Кадзи не знал, куда девать глаза. Заикаясь, он изложил суть дела: нельзя ли направить в бараки спецрабочих сорок женщин? Платит контора рудника.
Мадам Цзинь подняла на Кадзи большие маслянистые глаза.
— За колючую проволоку?
Кадзи кивнул. Она хрипло и коротко рассмеялась, затем прокомментировала все это на свой лад.
— В строй в две шеренги становись…
Кадзи запылал от стыда.
— Я понимаю. Если это невозможно — скажите.
— Почему невозможно! У нас торговля, платите и получаете, сегодня надо — сегодня будут.
В коридор высовывались головы из кабинок, затем стали выходить и сами женщины.
Кадзи заторопился. Попрощался.
На мосту ему снова преградили дорогу. Некрасивая грустная женщина, та, что не приняла участия в шутках подруг, когда Кадзи шел сюда, стала говорить ему, путая китайские и японские слова, что он злой человек, что японские женщины такого себе не позволят — там за колючей проволокой. И, почти плача, пригласила его принять участие в том, что он готовит для других.
Кадзи глядел на лицо женщины и уже не видел ее уродства. Она похожа на Митико, с ужасом подумал он.
— Если не хочешь, можешь не ходить, — мягко оказал он.
И она закричала, что она-то не пойдет, сколько бы ни сердился «большой японский начальник». Она не пойдет!
— Эй, Чунь-лань, одна увильнуть хочешь? Не выйдет! — крикнули сзади.
Кадзи оглянулся. Они собрались все у двери и видели эту сцену.
— Почему одна? — закричала женщина с моста. — Всем противно, потому я и сказала…
Но к ней уже спешила мадам Цзинь.
— Пойдешь или нет, решаю я, а не ты, — властно крикнула мадам Цзинь.
Женщины мгновенно смолкли. Угодливо улыбаясь, содержательница заверила Кадзи, что вечером, после ужина, сорок ее девушек будут, как приказано, на руднике.
У Кадзи чуть было не сорвалось: «Да не посылайте вы их». Но он пробормотал: «Хорошо, пожалуйста», — и заспешил прочь.
Он вполне сознательно взял на себя роль зазывалы публичного дома. Сорок женщин на шестьсот мужчин — это устроил он, Кадзи, на всех углах кричащий о том, что с людьми надо поступать по-человечески!.. Грязь, постыдная грязь! Позорное, мерзкое безволие! Он мог бы отказаться, но у него не хватило характера. Мерзость, мерзость, и нечего прятаться за приказ директора! Сам согласился, сам взял на себя, сам!
По дороге от рудника несли кого-то на носилках. Рядом с носилками шел служащий из его отдела.
— Что случилось? — спросил Кадзи, подбежав к носилкам.
— В штольне попало от Окадзаки.
Вместо лица у человека на носилках было кровавое месиво.
— В амбулаторию! — крикнул Кадзи, а сам со всех ног кинулся в главную контору,
32— Если мы будем смотреть на это сквозь пальцы, мы скоро останемся без рабочих, — наседал Кадзи на директора.
Что скажут они про него, если он не добьется справедливости? Двуличный, лгун, обманщик! И будут правы. А Митико?
Окидзима стоял рядом и несокрушимо молчал.
— Жизнь человека, кто бы он ни был, не вещь, которую можно списать за износом, — доказывал Кадзи. — Я возбуждаю против Окадзаки дело по обвинению в нанесении увечий, приведших к смерти.
— Да успокойся ты наконец. — Директор даже откинулся на спинку кресла, чтобы быть подальше от возбужденного Кадзи. — Возможно, ты по-своему и прав, но надо же брать шире! Конечно, очень плохо, что Окадзаки прибегнул к излишнему, неоправданному насилию. Но двигала-то им преданность делу, стремление выполнить приказ, повысить добычу руды! Иными словами, он руководствовался патриотическими чувствами. Ты понимаешь, что я хочу сказать?