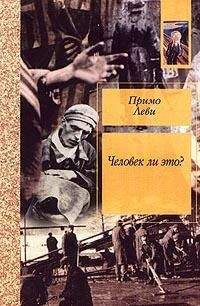Мария Нуровская - Письма любви
— Очень приятно, — ответил он, целуя мне руку.
Хуже всего оказалось, что я не понимала слов, которые он мне говорил, не могла понять их смысла. Передо мной маячило узкое лицо и чуть печальные глаза. Уже не полковник, а гражданский человек с той же фамилией.
— Мы даем вам срок — полгода, — услышала я его голос. — Мы хотим, чтобы вы сдали перевод сразу после каникул.
Так долго ждать, подумала я…
Знаешь ли ты, Анджей, что такое отчаяние? Трудно описать его словами. Боль, которая расползается, как черви. Она всюду — во рту, в горле, в желудке. И невозможно спрятаться от нее, убежать. Ощущение такое, будто на голову посажена гниющая шляпа, типа гриба… Отчаяние имеет запах гниения… Невозможно освободиться от этой вони…
Я поднялась. Когда мы оказались уже за дверьми, редакторша спросила:
— Вы неважно себя чувствуете?
Значит, я выглядела настолько плохо. Он меня уже видел в таком состоянии. Тогда, помню, он тоже сидел за столом, а потом встал, оперся руками о крышку. Он умел собой владеть. Кем я была для него теперь? Воспоминанием или чем-то большим? Он говорил, что полюбил меня с первого взгляда. Однако прошло столько лет. Ну можно ли относиться серьезно к тем, давно сказанным словам?..
Вернувшись домой, я легла на топчан и включила пластинку. «Вариации» Баха, обожаемые Михалом: бам-бам-бам… И вновь я была кем-то другим. С момента нашей встречи с Квятковским прошло два года. Сейчас май пятьдесят шестого. Два года — это мало или много? В таком деле это много, целая пропасть. Черный «ситроен» уже стал реквизитом из прошлого. Забавно, что я вновь зависела от него… Моя вторая натура давала о себе знать. Тогда я искала вину в отце. Теперь я не могу заглушить мысль об этом человеке, пытаясь свалить вину на себя. Тогда — «паяц с седой бородой», а теперь — «карьерист, антисемит, слабый человек». Противно, что так хорошо я выучила роль жертвы… А может, это тоска, желание хоть на минуту стать собой. Ведь он все обо мне знал. Он мог думать обо мне, зная мое настоящее имя. А может, меня измучили хлопоты вокруг моей официальной жизни, ведь у меня существовала еще другая, тайная жизнь. Обычно, когда оставалась одна, я как бы снимала маскарадный костюм жены, приемной матери, переводчицы. И тогда была с отцом. В эти минуты я всегда спорила с ним. Почему, спрашивала я его, ты учил меня, как нужно умирать, почему не научил меня, как нужно жить? Книжка, которая лежала тогда у тебя на коленях, называлась «Размышления о смерти» Марка Аврелия. Умирая, ты держал перед собой инструкцию… А я? Что со мной? Ведь я же хотела жить. Все во мне кричало и боролось за жизнь. Я притворялась, будто смерти нет, будто я не вижу ее. Несмотря на то, что на каждом шагу натыкалась на смерть. Поэтому меня тогда напугал мой несостоявшийся клиент-интеллигент, который должен был, как оказалось, еще много раз появиться в моей жизни в разных ролях. Я поймала себя на мысли, что хотела бы знать, как его по-настоящему зовут. Ведь он был такой же Кристиной Хелинской, только в мужском варианте. Интересно, как он с этим справляется, как мыслит о себе, под каким именем. Я ведь столько лет не могу решить эту задачу. Как Эльжбета я не существовала. Мой новый образ создан вашими словами, твоими и Михала. Я написала минуту назад, что для своих бесед с отцом я должна как бы прекратить маскарад. Наверное, все-таки нет. «Костюм» был так подогнан, что его можно было только расстегнуть. Временами он душил, мне становилось в нем тесно, тогда появлялся тот человек…
Я переводила с чувством, будто каждая страница приближает меня к нему. Настолько увлекалась, что ходила как ненормальная.
— Не перебарщивай с этим французом, — сказал мне Михал, глядя в глаза. — Как-нибудь вместо тарелок положишь на стол веник с совком…
Я рассмеялась, чтобы скрыть замешательство. В своем отношении к Михалу я тоже чувствовала фальшь. Две версии моей жизни были несовместимы. Однажды я проснулась в жутком настроении, все во мне клокотало, бунтовало. Всегда происходило так, что секс врывался в мою жизнь как дело неблаговидное. Моя любовь отобрала тебя у Марыси, а мысли о том человеке угрожали нашей любви. Все было непросто. Я оказалась в ситуации, когда должна была заглушать в себе то, что запрещено, но на самом деле было естественной потребностью… Случайно услышала в нотариальной конторе, как одна из сотрудниц сказала коллеге, что шеф питает ко мне слабость.
— А чего удивляться, — проговорила та, — у нее глаза курвы… — Повернувшись, она увидела, что я стою в дверях.
Я долго не могла забыть этих слов. Но разве это неправда? Моя вторая натура отзывалась во мне со страшной силой, ведь за моими плечами лежал большой груз опыта по части мужчин…
У старшего сына портного родился ребенок. Он пришел к нам с просьбой стать крестными родителями. Мы не могли отказаться. С этой миссией для меня были связаны дополнительные переживания, например необходимость исповедаться. Это было проблемой и для тебя, ведь ты состоял в партии. Пан Хейник все предусмотрел и обсудил с ксендзом в Миляновке. Мы должны были явиться туда поздно вечером в определенный день. С кислой миной ты вел машину, а я вспоминала молитву, которой меня учила Вера перед выходом из гетто, но, кроме «Отче наш…», в памяти ничего не всплывало. Легче было с другой — «Верую в Бога Отца и Иисуса Христа, Господа нашего». Неожиданно я почувствовала почти боль, ведь Христос не мой Господь и я от Него безнадежно далека. Но я всегда оказывалась Ему чего-то должна и никак не могла рассчитаться. Я подумала: может, рассказать все ксендзу и попросить его покрестить меня? Но тотчас отогнала эту мысль.
В костеле горела только лампадка при алтаре. Ты исповедовался первым, потом была моя очередь. Я еле заставила себя встать на колени. Желание убежать оказалось настолько сильным, что пришлось ухватиться за стенку исповедальни. Наконец мои непокорные колени согнулись.
— Хвала Господу нашему Иисусу Христу, — промолвила я шепотом, когда голова ксендза наклонилась к решетке. Но это уже были пустые слова.
Я не чувствовала, что совершаю святотатство, исповедуясь в ненастоящих грехах. И мне, и тому человеку определены роли, которые мы должны сыграть.
— Больше грехов не помню, — декламировала я, — обо всем чистосердечно сожалею, а у тебя, духовный отец, прошу отпущения грехов и покаяния. — А сама подумала: «Что ты можешь знать о моих грехах и о моих покаяниях? Я определяю их сама с того дня, как покинула гетто…»
Потом наступил день крестин. Я держала на руках ребенка. Он был неприятный, с красным, будто ошпаренным кипятком личиком, обрамленным в кружева чепчика. Когда ксёндз окропил его водой, младенец начал пищать. Я с облегчением отдала его матери. После выхода из костела мне стало плохо. Я обманула этих простых людей. Ведь, согласно их вере, крестины как бы не состоялись. И в том была моя вина. Я — как Иуда в юбке. Он тоже был евреем. «Как он…» — подумала я, и меня охватило то ли чувство вины, то ли… даже не знаю, как это назвать.
Стоял прекрасный день. Торжество по случаю крестин проходило на свежем воздухе. Столы, накрытые белыми скатертями, стояли в вишневом саду. Лица людей казались масками актеров в балагане. Солнце и яркая белизна цветков вишни подчеркивали все их недостатки. Пан Круп — грузный, почти квадратный в собственноручно сшитом костюме. Его жена с кошмарно большим бюстом, ее розовые бюстгальтеры всегда ужасали нас в ванной. Их дочки в нейлоновых платьях с оборками, волосы уложены локонами, к которым так не подходили прыщавые лица с уродливыми чертами. Потом военные, но не те, которых я помню перед войной, одетые с иголочки, а в мешковатых мундирах из некачественного материала. Ну и жены военных — эти пани майорши, сверкавшие усмешкой то золотых, то серебряных зубов. И ты в костюме, который не мог терпеть. Тоже сшитом паном Крупом.
Но ты — это совершенно другое. Твоя красиво посаженная голова, лицо. Каждый раз я с гордостью констатировала, что смотрю на настоящего мужчину. С той же самой гордостью и восхищением я созерцала красоту греческих скульптур. Ты точно мог быть натурщиком. Несколько раз наши глаза встречались. Твой взгляд говорил, что ты узнал бы меня среди тысячи людей. А если бы ты заглянул в мои мысли, то смотрел бы так же? Если бы ты знал правду… Она была небезопасна для нас обоих. Я любила тебя, восхищалась, но хотела лечь в постель с тем, другим. Через несколько рюмок внутри появилось хорошо знакомое тепло, та рука, дотрагивающаяся до моего живота, но это была не твоя рука… Хотелось сбросить все это, изменить ощущения внутри себя. Сейчас это было легче сделать, ведь я выпила. И передо мной стояли цветущие вишни.
— Если тебе нужна моя жизнь, приди и возьми ее, — тихо сказала я тебе.
— Что ты говоришь? — спросил ты.
— Ничего, цитирую «Вишневый сад» Чехова.
— Кристина, но это из «Чайки».