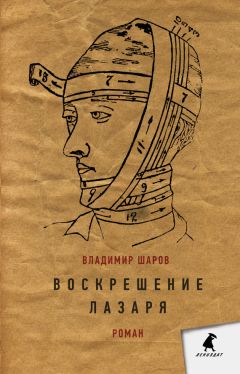Владимир Шаров - Репетиции
Раскрыла Сертану Никона история его поставления в патриархи. Это был один из любимых его рассказов, и Никон повторял его почти так же часто, как и детские истории. По словам Никона, еще за год до посвящения он, часто беседуя с царем наедине, всякий раз убеждал его, требовал, грозил, молил перенести мощи убитого Грозным митрополита Филиппа в Успенский собор.
«Бог, — кричал он Алексею, — прославил мученика святостью, а власть до сих пор не покаялась!»
Так продолжалось несколько месяцев, пока в конце концов наставленный им царь, словно под его, Никона, диктовку, но сам и своей рукой написал святому Филиппу послание, умоляя митрополита отпустить грехи убившему его царю Ивану и вернуться в Москву. Он просил Филиппа помириться с Иваном, уверял, что Грозный давно раскаялся и давно взывает о прощении. Он писал Филиппу, что завершилось то злое, разделившее царство время, Господь снова даровал благодать пастве Филиппа, и вся она ждет его, молит его с миром возвратиться обратно и с миром же примет его.
Филипп был похоронен в Соловецкой обители, и царское послание повез на Соловки Никон, повез с огромной свитой из бояр и архиереев. Потом умер старый патриарх Иосиф, и все уже знали, что Никон — наследник.
Он был выбран и тут же отрекся, потому что, как некогда Грозный Русским царством, хотел править церковью «на всей своей воле». И он получил ее. Он сделал так, что в Успенском соборе около привезенных им мощей святого Филиппа царь и бояре, распростершись на земле, клялись и молили его не отрекаться. И тогда он, Никон, встал и, обратясь к народу, спросил: «Будут ли почитать меня как архипастыря и отца и дадут ли мне устроить церковь?!» Все плакали и клялись, что дадут.
Вспомнив и теперь дважды повторив себе эту историю, Сертан вдруг спокойно и холодно понял, что из рассказа Никона ясно следует, что просто и он знает правила той игры, которой всю жизнь занимался Сертан, более того, знает их много лучше Сертана. Он знал их лучше, но это были те же правила. Он явно никогда не учился и не мог учиться этому, и все же он, не понимая, чем владеет, великолепно и исчерпывающе знал законы драмы. Знал все то, что ведет ее от первой реплики до последней, в чем игра плавает и растворяется вместе с теми, кто ее смотрит, делая их частью, соучастниками происходящего и заставляя верить в жизнь на сцене. Заставляет верить в игру даже самих актеров.
Никон делал это, как мы бы теперь сказали, интуитивно, он и сам во все безусловно верил, не сомневался, в отличие от Сертана, в подлинности действия, в том, что он ничего не играет и что игра, лицедейство — мерзость и смертный грех. В этом и была его сила. В нем была та погруженность, которой Сертану никогда, как он ни хотел, добиться не удавалось, хотя и в его жизни были постановки еще на заре работы с Аннет, в самом начале ее, когда минутами он верил в истинность и реальность жизни на сцене, или во всяком случае верил, что происходящее на ней подлиннее и реальнее жизни. Но это были минуты. Никон же никогда не выходил из состояния веры, и здесь, судя по всему, ему помогало то, что он был и продолжал быть ребенком, и то, что он обладал даром внушения, совсем редким по огромности и своей вере в него даром. И еще одно: он сумел обогатить действа, которые ставил, необычайно изменить и усилить их. Дело в том, что, что бы ни говорили в игре он и занятые в ней люди, а говорили они вещи вполне привычные, за этими привычными вещами стояли воля и слова Бога, которые «актеры» обрисовывали и вычерчивали, и неведомо для себя фактически произносили. И только те, кто видел их, понимали, что́ они произносили и что это не их слова, а слова Бога, который одновременно с ними тоже всегда был на сцене и говорил их устами.
Это обязательное присутствие главного и, в сущности, единственного настоящего действующего лица — незримого и невидимого, деяния и слова которого только ощущались, и все равно было ясно, что Он единственный и говорит и есть, а все остальное — фикция, мираж, — вот эта игра Господа Бога, Его столь явное и безусловное присутствие, создаваемое словами и движениями прочих действующих лиц, рисующих Его и Его волю, было то новое, огромное новое, что внес Никон в театр. Действия, монологи и реплики в постановках Никона, сохраняя прежнюю натуральность происходящего, обретали одновременно изначально свойственный им смысл и значение, как все, несущее в себе часть Божьей благодати. По сути, и Никоновы рассказы о своем детстве были изложением эпизодов той же долгой, начатой в детстве и растянувшейся на целую жизнь драмы; в ней было множество людей, лиц, характеров, отношения между ними были сложны, запутаны, изменчивы, и все же над этими отношениями всегда возвышалась, господствовала, была ясно различима, очевидна для каждого одна-единственная линия — линия отношений между Богом и человеком, линия служения человека Богу.
То, как Никону в его драме удавалось провести эту линию сквозь чересполосицу и сумятицу человеческих слов, намерений, поступков, ни разу не исказив ее, ни разу не потеряв и не ослабив, поразило Сертана и, очевидно, что для Новоиерусалимской постановки многое было взято им именно у Никона, и в этом многом он стал учеником Никона.
Сертан в дневнике чуть ли не через страницу упрекает себя, что повел дело так, что не смог уехать из России и оказался у Никона в Новом Иерусалиме, и мы, зная, что спустя восемь лет его отправят этапом в Сибирь и по дороге туда, уже за Уральским хребтом, как тогда говорили, за Камнем, он погибнет, кажется, должны с ним согласиться, и все же подобные записи не доминируют. Сертан, без сомнения, был захвачен происходящим в монастыре, тем, какую роль он в этом играл, и захвачен с каждым годом сильнее и сильнее. Он все глубже погружался в работу, она окружала, поглощала, завораживала его, это было и потому, что он любил и очень любил театр, и потому, что понимал, что никогда ни он, ни кто другой ничего подобного не ставил и вряд ли будет ставить, — он уж точно никогда не будет. Работа в Новом Иерусалиме была для него совершенно новой, весь его старый театральный опыт был мало применим для делавшегося здесь, и не только из-за того, что актеры были не профессионалы.
Причина была не в них и даже не в необычности и удивительности замысла, и не в том, что он шел ощупью и каждый день находил много нового для себя и знал, что не только для себя, знал, что никто ни к чему подобному и не приближался и вообще такого театра никогда не было и нет, — через некоторое время он понял другое, еще более важное: его репетиции явно были в Новом Иерусалиме центром и безусловным центром всего.
Это было странно, но получалось так, что подбор актеров, эскизы и мизансцены, которые делал Сертан, волновали Никона больше, чем строительство Воскресенского собора. Само это строительство было только одной долей всей огромной, затеянной Никоном и ведомой им, Сертаном, и под его руководством постановочной работы. То, что делал Никон и монахи, сотни нанятых работников и добровольцев, казалось, было лишь возведением декораций для спектакля, который Сертан ставил. Он придет к этому далеко не сразу, на исходе третьего или в первые месяцы четвертого года своего пребывания в Новом Иерусалиме, когда уже втянется в работу с актерами; до этого он долго, почти до крайнего срока оттягивал начало репетиций, убеждая и Никона и себя, что раньше надо закончить все мизансцены, — сам же он был уверен, что с крестьянами, которых ему навязал Никон в качестве актеров, ничего не получится и получиться не может, что людям, которые никогда не видели ни театра, ни театральных постановок, объяснить, что и как надо играть, конечно же, невозможно, и когда Никону это станет ясно, его, Сертана, не ждет ничего хорошего.