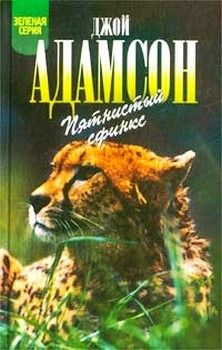Иван Зорин - Письмена на орихалковом столбе: Рассказы и эссе
Повествование должно быть построено достаточно умело, чтобы нельзя было дать однозначного ответа.
В замаскированной форме здесь также разбросана масса несуразностей, нестыкующихся, казалось бы, противоречащих друг другу деталей. Так, посреди сияющего солнечного дня на Мари, от чьего имени теперь в завершающих главах (умышленно, дабы усилить эффект сопереживания) ведется повествование, вдруг накатывает душная, давящая мгла. Иногда ей отчетливо кажется, что Джона не существовало никогда. (В основной версии Джон постепенно приходит в себя, а спрут исчезает: «Что это было?» — «Наваждение, милый…») Порой и окружающая обстановка растворяется во тьме, исчезая, как мираж. Главная и побочная линии пересекаются, сливаются и как будто подменяют друг друга.
И все переворачивается. Ибо по этим туманным намекам читатель, увязывая и примиряя противоречия, в какой-то момент вдруг приходит к тщательно скрываемой от него доселе мысли о том, что все представленное со страниц романа было всего лишь грезами Мари. Но вовсе не той счастливой и юной красавицы, супруги Джона, а какой-то иной женщины, чей образ, а точнее праобраз, едва начинает проступать только теперь, в конце, сквозь выдуманную ею же самою лживую проекцию себя на несуществующую красотку Мари. Отталкиваясь от обратного, читатель с уверенностью подозревает (и это подлинная кульминация), что ею вполне может оказаться и уродливая старая девственница — так под румянами прячется дряблая кожа, — которая корчится под одиноким одеялом, обливаясь терпким потом неразделенного оргазма.
Вот и вся конструкция: тема, материал и фабула.
Не знаю, чем привлек меня этот сюжет. Может быть, тем, что в его парадоксальном для бульварного романа финале, в его развязке в духе черных мистификаций Бирса[81] мне чудится горький, ироничный символ собственной жизни, как наглядный пример шелеровской[82] сверхсублимации.
Все же остальное, включая гротеск психоанализа — фигуру спрута как фантастического сгустка похоти, — должно послужить камуфляжем этой аналогии.
Да и вообще весь роман задуман мною как мрачная карикатура, пародия, как жутковатый шарж на modus vivendi любого затворника: будь то писатель, художник, философ или какой-нибудь иной жалкий ваятель образов.
Ибо ведь сказано, что в мире нашем «лучше видеть глазами, нежели бродить душою[83]».
ЛОВУШКИ ИЗ ПОТЕРЬ
Как-то дождливым осенним вечером Иосиф Арбисман, наделенный, как все художники, особой остротой видения и восприимчивостью, в приватной беседе, мерно льющейся вместе с тягучим и терпким вином из наших бокалов, ввел категорию «потерь».
Если Шопенгауэр заставляет нас понимать мир через волю, Фрейд — через сексуальность, а Хейзинга и карточный шулер — посредством игры, то искренняя увлеченность моего приятеля заставила меня на какое-то мгновение увидеть его сквозь призму утрат.
Я хорошо помню грустный каламбур — его интонации навсегда переплелись в сознании с неизбывной печалью еврейской улыбки, — которым он предварил тему: «Зорин, это у человечества существует множество языков, а у времени он один. Это шершавый язык потерь».
Длинная пауза, последовавшая за этим, помнится, еще навела меня на мысли о Цицероне, точнее о том, какую оценку давал его красноречию Монтень, и я, признаюсь, с затаенным неудовольствием уже ждал привычных «esse videatur[84]», которыми развивают подобные тезисы, в записи выглядящие особенно банально. Но как я ошибся! Он заговорил, и, употребляя излюбленную идиому евреев, это было надо слышать.
Лишенный возможности передать подкреплявшие его речь мимику и жесты, которые выражали несомненно больше произносимых при них слов и которые придавали еще трепетавшим при рождении образам завершенную форму, я постараюсь коротко изложить ходы и фабулу фантастического рассказа, сложившегося в моей голове под влиянием экспрессивности его монолога и, отчасти, винных паров.
Рассказ этот, являясь, конечно, жалкой пародией живого слова, все же может служить какой-никакой иллюстрацией концепции «потерь». С незначительными отклонениями»— за их незначительность я ручаюсь — вот он.
Некто (повествование ведется от первого лица), до болезненности замкнутый и одинокий, страдающий к тому же опасной погруженностью в себя, начинает замечать пропажи, таинственные исчезновения из своей жизни. Поначалу они столь незначительны, что едва проступают в суетливом калейдоскопе будней. Однажды в гостях, разделяя скуку хозяев, он играет в шахматы и намеренно ставит партию так, чтобы решить ее исход страстным комбинационным ударом. (Возможно, что, преломляясь, так сублимируется окружающая скука?) Противник, как слепой, послушно следует его планам, и на доске возникает желанная позиция. Она уже таит в себе, он знает, эффектное завершение, выигрышный ход, чье изящество вызывало бурю детского восторга. Да, он знает и теперь силится вспомнить его. Но память словно отказывает ему. Пытается отыскать его за доской. Тщетно. Тогда, не выдержав, обращается к сопернику. «Тихий ход?» — тот лишь удивленно вскидывает брови.
Томимый скверным предчувствием, герой лихорадочно роется в шахматных справочниках. Пока он еще верит, зрительно восстановив страницу с тем ходом, отмеченным парой восклицательных знаков, в его существование. И действительно, вскоре он разыскивает т у страницу. Ход на ней отсутствует. Мелочь, пустяк, каприз памяти. Но герой слишком мнителен, чтобы не обратить на это внимание. Ему здесь мерещится некий знак.
Следующий акт переносит нас в огромную, затемненную залу. Множество молчащих людей, заполняющих ее, подчеркивает неуютную обособленность каждого — это одиночество в толпе. Дают оперу, которую протагонист не слышал уже много лет. Он весь — предвкушение той дивной арии, ради которой, как ему всегда казалось, и сочинено это произведение. Но он ждет напрасно. Ария исчезла. Как со сцены, так и из либретто. На этот раз ему хватает благоразумия не обращаться к соседнему креслу: ведь он уже смутно о чем-то догадывается.
В дальнейшем черты отвлеченности стираются — потерянные детали пейзажа становятся все осязательнее, примеры исчезновений — все обыденней. Утрата ими вычурности призвана сделать их близкими любой душе. Так, он уже давно не замечает усатых и толстых жуков — куда они делись? — которые раньше, пробуждаясь к маю, нелепо кружились в нежной зелени весны и, жужжа, бились под рукой, когда он мальчишкой ловил их. А ведь их призраки вместе с испытанной тогда радостью продолжают жить где-то в воронке подсознания. Или нет? Или ему это только кажется?
Отметая как несуразное предположение о том, что он подвержен чувству, обратному deja vu, чувству, которое психологи относят на счет переутомления и усталости, протагонист справедливо полагает, что шахматный ход, оперная ария и майские жуки являются лишь элементами чего-то большего, что постоянно исчезает из его мира, что они — части какой-то мозаики, которая меркнет для него.
Утраты меж тем нарастают лавиной, теперь он обнаруживает их на каждом шагу. (Возможно, впрочем, что поток их постоянен, а взгляд героя становится пристальнее.) Мир вокруг него сужается, беднеет. Краски тускнеют. «Вначале, когда ч е г о-т о много, расстаешься легко, незаметно, — прояснял это состояние Арбисман, вращая бокал в ладонях, и рубленый строй фраз странно контрастировал с мягкой влагой его взора, — горечь проступает, когда остается мало, когда в душе, как в колодце, показывается дно».
Терзаемый сомнениями, снедаемый ностальгией по прошлому, мучимый страхом протагонист постепенно осознает, что вор — само время, что оно с первого вздоха обкрадывает индивида, и что он теперь бьется, как, впрочем, и все («просто другие меньше рефлексируют по этому поводу», — думает он), в сотканной временем паутине потерь и что сама смерть есть лишь частный, предельный случай пропаж. Таков страшный в своей неумолимости закон, который постигает герой, испытывая на себе его действие.
В этом месте легко поддаться искушению исказить дух философии потерь, облекая его в вульгарное и прагматично насмешливое «утраченные иллюзии», или пряча в дымовую завесу «старости». Суть ее лучше определить от противного. Если у Платона душа постепенно «припоминает», то душа «человека теряющего» — непрерывно «забывает». Герой одновременно боится и ждет новых исчезновений, как ждет больной все новых признаков своей неизлечимой болезни.
Такова тема hominis predentis, такова тема рассказа. Остается лишь уточнить время и место действия. Да нужно ли?
Интересную своей противоположностью и несколько парадоксальную мысль, в духе суфиев, высказала мне одна дама (находившаяся, как я думаю теперь, под влиянием Джалаледдина Руми[85]), когда я, передавая ей этот сюжет, дошел до финальной фразы, которая тогда прозвучала так: «Теперь я смиренно слежу за пропажами и тихо жду, когда исчезнет мое собственное, вконец опустошенное я. И тут, перебивая минор завершающего аккорда, моя знакомая заявила с уверенностью пророчицы или — чего здесь было больше? — безапелляционностью женщины: «Неправда, вот когда пропадет все лишнее, тогда-то и останется подлинная сущность оголенного я!»