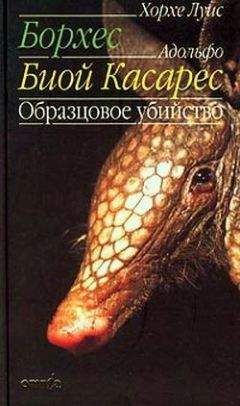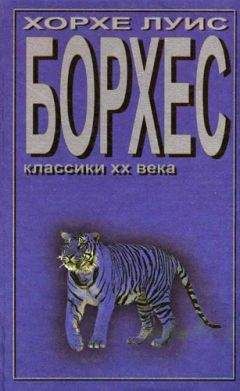Хорхе Борхес - Книга сновидений (антология)
Что касается кажущейся независимости некоторых снов от нашей повседневной жизни, их какой-то фантастической бессвязности — здесь тоже богатый материал для изучения. Я не думаю, что профессиональные исследователи с должным вниманием относятся к немаловажному психологическому факту: а именно к тому, что во время сна мозг человека оперирует не конкретными вещами, а либо представлениями о них, если речь идет о настоящем, либо же воспоминаниями, если речь идет о прошлом. Образ Росаса, навеянный мне вчерашним чтением, и прогулка на лодке по реке Кончас, совершенная в свое время, были для меня интеллектуальными событиями одного порядка и абсолютно одновременными, словно они вместе отпечатались на чувствительной пластинке мозга. Если внимание сфокусировало на одном и том же плане несколько образов — также как гипосульфит закрепляет на фотографической пластинке живой образ рядом со старинной картиной на стене, — то сон может объединить и скомбинировать их с кажущейся непоследовательностью, но на самом деле с неоспоримой логикой.
Изложу в двух словах наивный и трагически абсурдный сон, приснившийся мне позавчера ночью и, как я уже заметил, ставший отправной точкой этой усыпляющей беседы. Я находился в Капитолии Буэнос-Айреса, перед Росасом, отдавшим приказ о моем заключении и немедленной казни: я был Масой(Подполковник Район Маса, автор и первая жертва заговора 1839 г) и при этом я оставался самим собой, Груссаком. Мне удалось бежать, и я вдруг очутился где-то на крыше в Сан-Франциско, в окружении своей семьи (хотя на самом деле это была не моя семья). После десятка бредовых сцен мне на эту крышу привели коня, и я смог ускакать на нем в северные провинции, пересечь Рио де ла Плату и т. д. Что ж, все эти безумства подчинялись, как я понял после раздумий, определенной логической связи: в тот самый день, и почти одновременно, я, во-первых, вспомнил о своем пребывании в Сантьяго, увидев гаучо на коне; и, во-вторых, у меня возникла идея отправиться на лодке до острова, которым здесь владеют францисканцы; и, наконец, в пути я долго размышлял об одном эпизоде 40-го года, рассказанном в исследовании о Росасе французского моряка Паже, и дело было именно на берегах Параны.
We are such stuff — as dreams are made on… Я повторю эти глубокие шеспировские слова, вложенные в уста Просперо, в самой прекрасной, самой поэтичной и смертельно печальной из его комедий. Мы созданы из той же материи, что и наши сны; то есть можно сказать и иначе: мы ткем наши сны из нашей собственной субстанции. Так, инстинктивное беспокойство поэта, наверное, проникает глубже, чем знание мудрецов, которое вот уже сколько веков подряд кружит вокруг искомой истины, не смея воплотить ее в позитивной формуле. Не происходит ли это потому, что не запуская в омут тайны экспериментальный зонд, который лишь взволнует воды, поэт, склонившись над гладкой поверхностью, сумеет различить отраженное небо, в чем и содержится величайшее объяснение?..
Сон вбирает значительную часть нашей жизни; с другой стороны, не подлежит сомнению, что сновидение — это специфическая форма безумия, периодический бред, более или менее типичный. Бредить (исп. delirar), согласно своей этимологии, обозначает "сеять мимо борозды". Это вовсе не значит, что борозда плохо проложена или семя испорчено, просто это вопрос неточности, ошибочного направления. Таков бред в самой его распространенной форме: серия несвязанных действий или слов, лишенных последовательности и логичности, при том, что каждое действие само по себе будет рациональным, а слово корректным. Так может быть, дефиниция сна должна быть другой?
То, что называется "психической нестабильностью" — не случайное отклонение, а форма физиологического существования. Для того, кто изучает человеческий организм, ежесекундным чудом кажется постоянство здоровья: что мы скажем о нашем церебральном аппарате, который каждые сутки погружается в невидимые уголки затемненного сознания? Разве не чудесно, что каждое утро вместе с ясным и бодрящим солнечным светом выныривает на свет и наш разум, не тронутый ночными затемнениями и призраками?
Несомненно одно: домашний очаг, семья, знакомые и любимые лица, работа, привычная последовательность обычных действий — вот еще другие вехи и отправные точки, поддерживающие равновесие шаткого сознания. Они ведут его по лабиринту рифов, где на каждом шагу подстерегает опасность: так мореплаватели в старину осторожно передвигались от мыса к мысу, не упуская из вида берег и отыскивая в его зыбких очертаниях едва заметные глазу ориентиры. Это потом мореплаватели получили спасительный компас, позволивший им бороздить mare tenebrosum (Мрачное море) ночью, также как и днем. Недолговечные исследователи бесконечного, где и как отыщем наш компас, если все то, что раньше могло им стать, провозглашено устарелым и выброшено на свалку?
Поль Груссак, "Интеллектуальное путешествие" (1904)
Поль Груссак
Улыбка Аллаха
Видел Аллах, как шел по долине Иисус, как морил его сон, как уснул он, и привиделся ему во сне белеющий череп. И сказал Аллах: "О, Иисус, спроси его, и он тебе поведает". Иисус громким голосом вознес молитву, и от его чудотворного дыхания череп заговорил. Он рассказал, что душа его подвергнута наказанию на веки вечные потому, что он принадлежал к народу, на который пал гнев Аллаха, описал Азраила, ангела смерти, а также что видел он и что претерпел за каждыми из семи врат ада. Снова Иисус вознес молитву, и череп вновь обрел тело, к которому вернулась жизнь, с тем, чтобы двенадцать лет он служил Всевышнему и умер, получив от Бога прощение. Тут Иисус пробудился и улыбнулся. И Аллах улыбнулся тоже.
Предание Среднего Востока
Хуан Хосе Арреола
Плод сновидения (перевод С. Корзаковой)
Я нереален, я боюсь, что буду никому не интересен. Я ничтожество, призрак, химера. Живу среди страхов и желаний; страхи и желания дают мне жизнь и отнимают ее. Как я уже сказал, я ничтожество.
Я пребываю в тени. В долгом и непостижимом забвении. Внезапно меня заставляют выходить на свет, тусклый свет, который делает меня почти реальным, но затем обо мне забывают, потому что снова занимаются собой. Всякий раз я снова теряюсь в тени, мои движения становятся более неопределенными, я делаюсь все меньше, превращаясь в ничто, в нечто даже не зародившееся.
Ночь — время моего господства. Напрасно пытается отстранить меня супруг, терзаемый кошмарным сном. Иногда я с волнением и упорством удовлетворяю смутное желание женщины; малодушная, она сонно сопротивляется, распластанная и податливая, словно подушка.
Я живу непорочной жизнью, распределенной между этими двумя существами, которые ненавидят и любят друг друга, которые вынуждают меня родиться уродливым младенцем.
Я красив и ужасен. Я то разрушаю мир супружеской пары, то разжигаю еще сильнее любовный огонь. Иногда я занимаю место между ними, и тесное объятие исцеляет меня чудесным образом. Мужчина замечает мое присутствие, силится задушить и заместить меня, но в конце концов побежденный, обессиленный, охваченный злобой, он поворачивается к женщине спиной. Я же, трепещущий, остаюсь рядом с ней и обхватываю ее своими несуществующими руками, которые во сне постепенно разнимаются.
С самого начала мне следовало сказать, что я еще не родился. Я — медленно и мучительно развивающийся плод, еще не вышедший из водной стихии. Своей любовью, сами того не сознавая, они причиняют вред моей еще не родившейся сущности. В мыслях они долго трудятся над моим воплощением, их руки упорно пытаются придать мне форму, но всегда неудовлетворенные, они переделывают меня вновь и вновь.
Но однажды, когда они случайно найдут мою окончательную форму, я скроюсь от них и сам, возбужденный реальными ощущениями, смогу видеть сны. Они оставят друг друга, а я покину женщину и буду преследовать мужчину. Я буду стеречь дверь его спальни, потрясая огненным мечом.
Хуан Хосе Арреола, «Побасенки» (1962)
Герберт Аллан Джайлс
Сон Чжуанцзы
Чжуанцзы приснилось, что он стал мотыльком. И проснувшись, он уже не знал, кто он: Цзы, видевший во сне, будто стал мотыльком, или мотылек, которому снится, что он — Чжуанцзы.
Герберт Аллан Джайлс, «Чжуанцзы» (1889)
Доминго Фаустино Сармьенто
Сон Сармьенто
В Неаполе, после подъема на Везувий, волнения дня вызвали ночью жуткие кошмары вместо сна, в котором так я нуждался. Вспышки пламени вулкана, мрак в пропасти, где должно было быть светло, — все смешалось, заставляя угнетенное страхом воображение порождать невесть какие нелепости. Пробуждаясь среди кошмаров, совершенно истерзанный, я не мог отделаться от одной навязчивой мысли, словно то была правда: "Моя мать умерла!"… К счастью, мать и поныне рядом со мной. Она рассказывает мне о прошлом, учит тому, что еще неведомо мне, а прочими уже забыто. В возрасте семидесяти шести лет она пересекла Анды, дабы прежде, чем сойти в могилу, проститься с сыном! Одного этого достаточно, чтобы представить себе ее нравственную силу, ее характер.