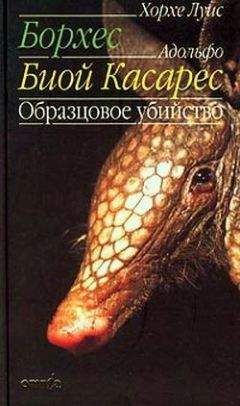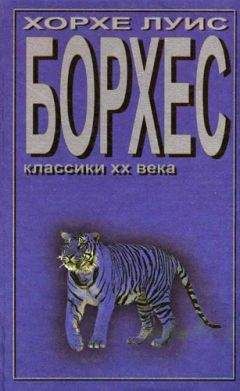Хорхе Борхес - Книга сновидений (антология)
Хорхе Луис Борхес
Геродот
Сны Астиага
После сорока лет царствования скончался царь Мидии Киаксар и наследовал ему сын Астиаг. У Астиага была дочь, которую звали Манданой. Приснился Астиагу сон, что дочь его напустила такое количество мочи, что затопила город Акбатаны и всю Азию. Астиаг не хотел отдавать дочь в жены ни одному мидянину и выдал ее замуж за перса по имени Камбис, человека знатного происхождения и спокойного нрава, хотя по знатности ниже среднего мидянина. Опять увидел сон Астиаг, и приснилось ему, что из чрева его дочери выросла виноградная лоза, которая разрослась затем по всей Азии. Значение сна было истолковано так: сын его дочери будет царем вместо него. Послал Астиаг вернуть дочь домой, а когда она разрешилась от бремени, отдал младенца своему родственнику Гарпаге и велел умертвить его. Гарпага мучили страх и жалость, и он передал ребенка пастуху Митрадату, приказав умертвить его. У Митрадата была жена Перра, которая только что родила мертвого младенца. Тот младенец, которого ему вручили, был в богато расшитом одеянии. Супруги решили подменить его, поскольку знали, что он — дитя Манданы, и таким образом они сохранят ему жизнь. Мальчик рос, его сверстники-пастушки всегда выбирали его царем в своих играх, и он верховодил всеми ребятами. Проведал о том Астиаг и приказал Митра-дату раскрыть происхождение мальчика. Так узнал он, что приказ его не был выполнен. Притворившись, что простил ослушника, пригласил он Гарпага на пир и велел ему прислать во дворец сына, чтобы тот поиграл с внуком. А во время пира приказал он подать Гарпагу жареные куски его умерщвленного мальчика. Гарпагу ничего не оставалось, как смириться. Астиаг снова обратился к снотолкователям-магам, и они ответили ему так: "Если мальчик жив и даже стал царем среди пастухов, нет опасности, что во второй раз будет он царем". Довольный Астиаг отослал мальчика к его настоящим родителям, которые были счастливы, что он жив. Мальчик возмужал и сделался самым доблестным среди своих сверстников. С помощью Гарпага он низверг царя Астиага, но не причинил ему никакого зла. И основал Кир, бывший пастух, империю персов.
Так повествует Геродот в первой книге «Истории».
Альфред де Виньи
Романтика
Жизненные завоевания — это сон юности, сбывшийся в зрелом возрасте.
Альфред де Виньи
Спор из-за хлеба
(«Нузетоль Удеба», «История Ешуа из Назарета»)
Путешествовали мусульманин, христианин и иудей, у них кончились все припасы, а еще оставалось два дня пути по пустыне. Вечером они нашли хлеб. Но как поступить? Хлеба хватит только на одного, на троих его слишком мало. И тогда они решают, что хлеб достанется тому, кто увидит самый прекрасный сон. Наутро христианин говорит: "Мне снилось, что дьявол принес меня в ад, чтобы я смог познать весь его ужас". Затем говорит мусульманин: "Мне снилось, что архангел Гавриил принес меня в рай, чтобы я смог оценить все его великолепие". Последним говорит иудей: "А мне приснилось, что дьявол унес христианина в ад, архангел Гавриил унес мусульманина в рай, и я съел хлеб".
"Нузетоль Удеба"
II. Иудейская версияПутешествуют Иисус, Петр и Иуда. Приходят они на постоялый двор. А там из еды только одна утка… Петр говорит: "Мне снилось, что я сижу рядом с сыном Бога". Иисус говорит: "Мне снилось, что Петр сидит рядом со мной". Иуда: "Мне снилось, что вы сидели вместе, а я ел утку". Все трое принялись искать утку. Ее нигде не было.
"История Ешуа из Назарета"
Луи Арагон
Заходите!
Аа! Очень хорошо! А теперь пожалуйте в бесконечность!
Луи Арагон
Поль Груссак
Среди снов
Главная ценность этого островного климата заключена в том, что персонаж из пьесы Мольера назвал бы "снотворным снадобьем". Только когда спишь, избавляешься от немыслимого безделья. Известное предписание медицинской школы Салермо (sex horas dormire…), хотя и выраженное на прекрасной кухонной латыни, показалось бы нам здесь неудачной шуткой. Шесть часов сна! Мы, будто в насмешку над этой премудростью, признавали не меньше восьми-девяти часов, да и днем, осмелюсь заметить, не обходилось без непродолжительной сиесты. Впрочем, тут не надо было опасаться никаких вредных последствий: резервы сна в этих местах столь же неисчерпаемы, как воды Параны: четыре вялых взмаха веслом, и тебя, словно неодолимой силой снотворного, затягивает в бескрайнюю юдоль сна.
О себе могу сказать, что с таким распорядком дня я легко одолевал самую страшную бессоницу — ту, что приносит сюда на рассвете северный ветер, — ни разу не прибегнув к крайнему и обоюдоострому средству: запрещенному, иными словами, скучному, чтению. Подобная растительная жизнь — настоящее благо для нервов: иногда мне казалось, что я просто-напросто превращаюсь в какую-нибудь иву…
На манер жертвоприношения богу Морфею, я посвящаю эту воскресную беседу такой усыпляющей — как явствует из названия — теме, и не скажу, что не владею предметом. На совесть изученный материал, — то бишь состояние между сном и явью, — не будет выглядеть таким уж ничтожным, как кажется. Сон вовсе не вынесен за скобки жизни, он одна из самых ее любопытных фаз: как будто и не заключая в себе тайны, он в то же время граничит со сверхъестественным. Посему поэты понимают феномен сна лучше, чем физиологи. В то время как последние дискутируют, соответствует ли состояние мозга во время сна анемии или гиперемии, при том, что проблема не имеет окончательного ответа, первые — от Гомера до Теннисона — пытаются разглядеть истину сквозь радужную призму иллюзии. Самый великий из них обронил фразу, смысл которой достиг таких глубин, до коих не доберутся никакие зонды и никакие психометры: "Мы созданы из вещества того же, что наши сны…". И один из героев Мюссе, комментируя на свой лад божественного Шекспира, сладостно поет:
La vie est un sommeil, 1 amour en est le reve.. (Жизнь — это сон, любовь в нем — греза…)
Но до чего же тонок наш психологический инструмент! Сколь современен и богат оттенками язык, тот язык, который под одним только ярлычком слова «сон» кидает и кидает в переметную суму Санчо все семейство этих sommeil, somme, reve, reverie и т. д., сводя целую гамму к единственной ноте тромбона!
Разумеется я не какой-то особенный сновидец. Случается, целые ночи я провожу, не изведав той нелепицы "бессознательного мыслительного процесса", который для других является синонимом сна. И поскольку я убежден, что ни в поступках моих, ни в моем поведении нет симптомов сомнабулизма, то в соответствии с расхожей теорией должен признать, что в большинстве случаев, когда я не помню снов, их, видимо, попросту не было. Впрочем, вскоре мы убедимся, что и здесь надо проводить различия, ведь реальность не намного проще теории. Так или иначе, я достаточно размышлял об этом особенном органическом разъединении, похожем на периодический развод души и тела. Возможно, по той самой причине, что я редко вижу сны, они сохраняют большую четкость, чем у других. С далеких детских лет я помню четыре или пять снов, таких ярких, словно я видел их позавчера ночью. Они и послужили источником этих строк, и позже я их вкратце изложу. О других сохранились заметки в моих тетрадях: некоторые из них такие странные и страшные, что даже сегодня, стоит мне перечитать написанное, изначальное чувство тревоги и ужаса, испытанное в сновидении, мгновенно воскресает вновь. Кроме того, я нередко наблюдал в моих ближних, и порой совсем рядом, внешние проявления сна, особенно кошмарного. Да и мой подвижный образ жизни предоставил мне материал для наблюдений. В разнообразии путешествий — от постоялых дворов Боливии до корабельных кают и английских спальных вагонов — я присутствовал, более чем достаточно, при драмах и комедиях спящего человечества, но ни один позднейший опыт не был столь полным и продолжительным, как первый, о котором я и расскажу. Он-то, этот опыт, и лег в основу моей скромной собственной теории о сне, впоследствии, разумеется, подкрепленной более поздними наблюдениями и выдержками из книг, подтверждающими ее точность. С той поры прошло много лет, и хотя сегодня я, возможно, владею более совершенными аналитическими приемами исследования, но результаты той давней юношеской инициации и по сей день сохраняют для меня ценность, так что я считаю, что первый опыт не пропал втуне. В то время, 23 года назад, я жил в Сальте, в доме одного коммерсанта из Тукумана. Оба мы тогда были молоды и, будучи близкими друзьями, спали в одной комнате, чтобы болтать друг с другом, лежа на кроватях, хотя в нашем огромном колониальном доме, способном приютить и семейство Ноя, свободных комнат было предостаточно. Мы почти всегда возвращались домой вместе, но если случалось, наши вечерние маршруты все же не совпадали, то первый, добиравшийся до родных пенат, поджидал другого в соседнем "Бильярде Лавина". Поскольку у меня уже тогда существовала дурная привычка читать в постели, то в течение часа или двух я мог наблюдать сон моего друга. Будучи человеком, который наяву и мухи не обидит, во сне он превращался в mauvais coucheur (неуживчивый человек), настоящего буяна. Если он спал спокойно, то всего лишь храпел как бегемот до тех пор, пока не просыпался, испуганный собственным трубным ревом. Но это, как говорится, еще полбеды. Чаще всего товарищ мой, мучимый во сне жестокими кошмарами, метался и кричал, что доводило меня до дрожи в коленках, если не сказать сильнее. Я начал тяготиться неудобствами совместной жизни в одной комнате, но что-либо менять было уже поздно. Сперва меня удерживало сочувствие, а потом и любопытство, или, вернее сказать, растущий интерес к этой чужой внутренней драме, разыгрывающейся за опущенным занавесом, драме, которую я не мог видеть, зато отлично слышал. И в представлении этом я как-то незаметно перешел от роли немого свидетеля к роли сметливого соучастника.