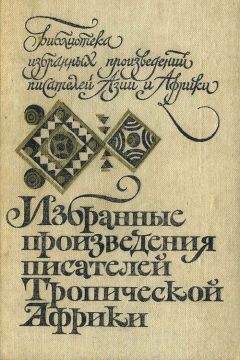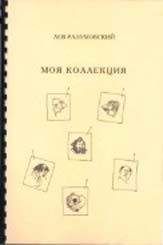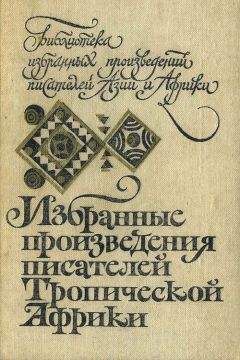Йоханнес Зиммель - Господь хранит любящих
— Что случилось?! — бросился к нам бармен.
— Помогите мне, — сказал я. — Даме стало плохо!
8
Кроме нас в баре сидели еще двое мужчин; они бросились мне в глаза сразу, как я вошел. Оба, должно быть, проигрались. Они прислушивались к голосам крупье из зала, точнее к голосу одного из них. Когда я шел к стойке, тот как раз выкрикнул: «Trente-six, rouge, pair et passe!»[49]
На это один из мужчин сказал:
— У меня было двадцать на последней дюжине и десять Transversale pleine.
Другой ответил:
— Черт, а я, идиот, опять поставил на двенадцать, два слева, два справа!
Оба продолжали играть. А так как у них больше не было денег, они могли играть только мысленно, чем они и занимались. В мыслях они ставили фишки, которых больше не имели.
«Vingt-neuf, noir, impair et passe!»[50] — крикнул крупье от первого стола.
— У меня ничего, — сказал один.
— А у меня «лошадка» с десятью шиллингами, — ответил его партнер по странной игре и потер руки.
Сейчас, когда мы с барменом старались привести в чувство Петру, оба мысленных игрока подошли к нам. Один смущенно спросил, не может ли он чем-нибудь помочь, второй в это время поднял с пола упавшую сумочку Петры. Две двадцатишиллинговые фишки выкатились из нее. Продувшийся игрок воспользовался всеобщим замешательством, чтобы их украсть. С отрешенным видом он опустил кусочки искусственной смолы в карман. Он был убежден, что этого никто не заметил. Никто и не заметил, кроме меня, а у меня были другие заботы.
— Я принесу даме коньяк, — сказал бармен.
Воришка высказался, что при обмороках лучше всего «Ферне Бранка», и заспешил в зал.
После первого глотка «Хеннесси», который мы в нее влили, Петра открыла глаза. Она все еще лежала на ковре, я поддерживал ее голову. Как только она пришла в себя, ее зубы застучали по стакану, это звучало ужасно.
— Мне очень жаль. — Она, шатаясь, поднялась и оправила платье, при этом чуть не упав снова.
— Что случилось? — Я крепко держал ее. — Что с вами?
— Волнение от игры, — вежливо пояснил бармен. — Может быть, даме лучше выйти на воздух…
Лицо Петры было совсем белым. Она посмотрела на стойку. Я тоже посмотрел на стойку. Там, куда смотрели мы оба, лежала фотография Сибиллы.
— Пожалуйста, проводите меня в мой номер, — сказала Петра. — Мне нужно с вами поговорить.
Я заплатил за выпивку и вместе с ней двинулся через зал наверх. За первым столом сидел воришка. Он как раз поставил на девятнадцать украденный кружок. Шарик крутился.
«Dix-neuf, rouge, impair et manque!»[51] — возвестил крупье.
Вор выиграл семьсот шиллингов.
Номер Петры был похож на мой. Здесь также был приемник, который передавал музыку. Звучал концерт фа мажор Джорджа Гершвина[52]. Петра выключила радио, села на постель и сказала:
— Теперь я знаю, кто убил Эмилио Тренти…
— Кто?
Она продолжала не двигаясь:
— …и кто так же убил бы меня, если б мог.
— Кто? — спросил я еще раз.
— Женщина, чью фотографию вы мне показали.
— Сибилла? Она кивнула.
Непостижимое становится понятнее, становится переносимее и представимее, как только покидает область невысказанного и облекается в слова, из уст или на бумаге. Кошмар, рассказанный поутру, уже не пугает, он может быть даже смешон.
Мы сидели друг против друга в светлом неуютном номере отеля, Петра на кровати, я — в неудобном кресле, и она сообщала мне, что считает Сибиллу убийцей. Я подумал, что это — не говоря о прочем — страшно, но возможно.
Я спросил:
— Так вы знаете Сибиллу?
— Да, — сказала она, и ее зубы снова застучали.
— Может быть, вы путаете ее с кем-то другим? Фотография не слишком хорошая. Есть люди, очень похожие друг на друга.
— Господин Голланд, у вашей подруги была родинка величиной с шиллинг под левой подмышкой?
— Да.
— Она плохо слышала на правое ухо?
— Да.
— Из-за поврежденной барабанной перепонки?
Я кивнул и подумал, что все, конечно, сплошное недоразумение, и вот-вот все объяснится каким-то безобиднейшим образом.
— И это повреждение, — продолжала между тем Петра своим неестественно спокойным, неестественно чистым голосом, — было результатом удара, который ваша подруга получила еще ребенком?
— Да, — ответил я тяжелым, едва ворочающимся языком, словно был пьян. — Сибилле было двенадцать лет, когда какой-то старик…
— …когда какой-то старик ударил ее на улице.
— Потому что она играла с его собакой.
— Потому что она играла с его собакой.
Мы сказали это одновременно.
Она вздохнула:
— Мне жаль вас, господин Голланд.
— Простите?
— Мне жаль вас, господин Голланд. Вы вызываете у меня сочувствие. Я уверена, что для вас будет тяжелым ударом услышать правду.
— Правду?
— Правду о Виктории.
— Кто такая Виктория?
— Женщина с фотографии.
— Ее зовут Сибилла Лоредо! — прошептал я.
Она покачала головой, сурово и неумолимо, как ангел Господень в день Страшного суда:
— Нет, господин Голланд. Женщину с фотографии зовут не Сибилла Лоредо. Ее зовут Виктория Брунсвик.
9
Теперь мне необходимо преодолеть маленькую трудность в дальнейшем рассказе. Я должен поведать кусочек прошлого, свидетелем которого я не был. Я должен рассказать о двух женщинах — Петре Венд и второй, которую я знал под именем Сибиллы Лоредо, но которую в действительности звали Виктория Брунсвик.
В то время, когда Петра Венд рассказала мне в Зальцбурге, в номере отеля, о своем и Виктории Брунсвик прошлом, у меня еще не было возможности проверить, соответствует ли эта история действительности. С тех пор прошло много дней. Такая возможность у меня появилась.
Я установил, что Петра Венд говорила в ту странную ночь чистую правду. Я нашел свидетеля. И этим свидетелем был не кто иной, как Сибилла Лоредо.
Впрочем, я понимаю, что постоянное использование двух имен — Сибиллы Лоредо и Виктории Брунсвик — может запутать читателя. Поэтому женщину, которая носила оба эти имени, я буду и дальше называть Сибиллой. И так понятно, что это одно и то же лицо. А поскольку сегодня, когда я пишу эти строки, у меня больше нет оснований подвергать сомнению рассказ Петры Венд, я запишу его как реальное событие, от третьего лица.
История, которую я должен здесь изложить, началась апрельским вечером 1944 года в Зеленой гостиной итальянского посольства в Берлине. Шла война. Столица так называемого великого германского рейха только что подверглась англоамериканским воздушным налетам. Битва за Сталинград была проиграна. Сражение за Африку проиграно. Высадка союзников в Нормандии еще предстояла. Голодная, полная страха и отчаяния жизнь теперь протекала в промежутках между воем сирен, фосфоресцирующими ливнями и ковровыми бомбардировками, с Би-би-си, карточками и партийными шпиками.
В тот апрельский вечер — рейхсрадио Берлина сообщило о «тяжелых воздушных боях за Дойчен бухт в сердце земли Бранденбург» — в Зеленой гостиной итальянского посольства был сервирован коктейль. Это был так называемый «манхэттенский прием», и атташе по культуре извинился перед дамами, что — по понятным причинам — в напитках отсутствовал как компонент настоящий английский джин. Атташе по культуре был молодой красивый мужчина, черноволосый, с горящим взглядом. Он был особо мил с дамами и абсолютно гомосексуален. Многие дамы в Берлине и в других местах пытались отвратить его от педерастических пристрастий и склонить к нормальным сексуальным взаимоотношениям, но тщетно. Атташе по культуре был в Берлине невыразимо счастлив. Он любил стройных белокурых и голубоглазых мальчиков и, как только выпадала возможность, совершал поездки по автостраде 504 с членами гитлерюгенда.
— Возможно, скоро, — говорил он напевным голосом даме в черном вечернем платье, — нам придется устраивать приемы в каком-нибудь подвале. Это будет скандал!
У дамы были коротко стриженные белые волосы. Ее кожа была чистой, глаза прозрачно-голубые. Ей было двадцать четыре года, и звали ее Петра Венд. Она в первый раз была в итальянском посольстве. Посол, нашедший ее в каком-то ночном ресторане, был стар и уродлив, но нормальной ориентации и любил красивых женщин. Он был charmant[53]. Он знал, как угодить женщинам. Те, кто знавал его интимно, отвергали ради него общество всех прочих мужчин.
— У нас в Берлине теперь не так хорошо, — говорила Петра Венд, жадно вгрызаясь в аппетитный сэндвич с красной рыбой, которой теперь в Берлине было не так уж много.
— Как только мы добьемся окончательной победы, ваш город будет отстроен заново и станет еще лучше, — ответил атташе по культуре, радуясь, что ему удалось избежать иронии в голосе. Он хорошо говорил по-немецки.