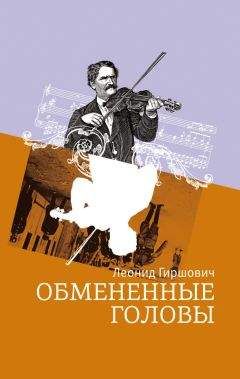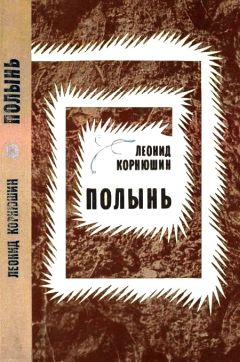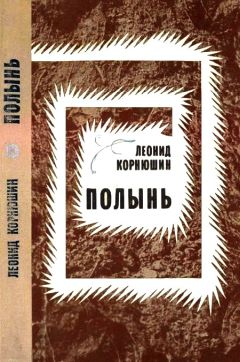Леонид Гиршович - Шаутбенахт
— Ух ты, и как?
— Что — как? Пьеса?
— Заграница.
— А я ее не разглядел. Цена за билет была умопомрачительная: эмиграция.
— Стоило?
(О, милая девочка, да разве ж я знаю?)
— Как сказать… Потом я решил махнуть из одних тридцатых в другие тридцатые, из страшных американских в счастливые советские. Снова построил себе плот — а ведь было немало таких, что плыли теплоходами, прямиком в краснознаменный стрелковый одна тысяча девятьсот тридцать седьмой год.
— Ясненько. Взял бы меня с собой? — Это как-то сразу поменяло диспозицию: совсем подросток, кожа да кости — пробирает аж насквозь. Малолетняя преступница, она все учуяла. — Ты женат?
Я солгал, не в силах противостоять старческому недугу — занывшей пояснице.
— Но я же для тебя старик.
— А я для тебя старуха. Хочешь старуху?
— Да… но мне некуда ее вести. Я не местный, живу в общежитии.
— Не страшно, сейчас не холодно. А после двинем в краснознаменный ворошиловских стрелков тридцать седьмой полк. Тра-та-та.
Целую ночь кочевали мы с полянки на полянку (для разнообразия, а также в целях конспирации), набираясь во время переходов сил для новых хрупких подвигов. Начинало светать. Скоро появятся первые люди. Так и есть — первые люди. Бородатые. На одной из полянок (мы — охотник за деревом) сидели они и жгли костры. При этом плакали:
Ленин Троцкому сказал:
«Пойдем, Левка, на базар,
Купим коня карива,
Накормим пролетария».
Ошиблись десятилетием. На другой полянке и сидели и плакали уже по-другому:
Товарищ Ворошилов,
Война уж на носу,
А конница Буденного
Пошла на колбасу.
Вдруг повскакивали, словно тридесятое чувство подсказало всем, что они — под хрустальным колпаком счастья. Бросились врассыпную, но расплющились о стекло.
— А это уже тридцатые. Даже в сплющенном виде жизнь — продолжается!
КОТЕНКО-МАЙОР
Мы в раздумье стоим на площади: городишко имеет пуп — центральную площадь. Посреди полусквер-полулужа, в которой плещется, за отсутствием свиней, несколько кошек — в знак преобразования природы. Мостовая, какой мы давно уже не видели: булыжная.
— Ну-с, граждане, о чем я думаю, это понятно, а о чем вы думаете?
— Милый, я думаю о тебе, какой ты у меня умный.
Это она серьезно?
— А больше ни о чем? Тебе не страшно? Видела, как все боятся?
— Так ведь это же нас не касается. Мы с тобой подданные других времен. Нам с тобой ничего не грозит. Не шути больше так со мной, милый, ладно? Мы здесь как иностранцы, правильно?
Я кивнул.
Привычно фальшиво:
— Все-то ты у меня знаешь. Пойдем.
Она вопросительно на меня посмотрела.
— Вот видишь, открыто, — пояснил я.
— Но это же фотография.
— Ну и что?
— Я хочу в промтовары.
— Но у нас все равно нет их валюты.
— А я не валютчица, я только посмотреть.
Совсем еще маленькая. Господи, до чего славная.
— Не выйдет, детонька, сейчас обеденный перерыв, посмотри на свои часики.
Она отогнула пальчиком край рукава и смотрит — по-детски доверчиво. Вместо часов у нее компас, последняя московская мода, но и по компасу она безошибочно определяет время.
— Верно, все закрыто. Не возражаю.
Чтобы войти в фотографию, пришлось спуститься на три ступеньки вниз. Фотограф, человек без возраста, в черных нарукавниках, сидел за столом и пересчитывал наколотые на гвоздь квитанции. При виде нас он встал, прошелся из угла в угол и вдруг громовым голосом спросил:
— За чем пожаловали?
От неожиданности я смешался:
— За советом, — на большее меня не хватило.
Тогда он зажмурился — как тугоухий или тот, кому больно глотать.
— За чем, за чем?
— Вся власть советам. Вы что, плохо слышите, папаша?
Это уже она — показала зубки.
Фотограф молча повернулся лицом к окну и забарабанил пальцами по стеклу, давая понять, что разговор окончен.
— Слышал, милый? Он против советской власти. Другого найдем — который за.
Мне ничего не оставалось, как согласиться с ней. Когда я демонстративно взялся за ручку двери, он нас окликнул:
— Погодите. Это я вас испытывал. Вы чьи будете? Германские, да?
— Нет, — ответил я, — ошибочка вышла, московские.
Фотограф сел (на стол — и чуть не напоролся на свой гвоздь с квитанциями).
— Ой!..
— Да успокойся ты, успокойся, — вмешалась она. — А теперь мой муж (тут я чуть было не сел) тебя испытывал. Германские, чьи же еще…
Фотограф успокоился и даже подозрительно прищурился:
— А не американские, а?
— Нет, папаша, немецкие.
— Да мне-то и все равно, только б не эти. — Большим пальцем он показал через плечо. — Американские, правда: «До Бога высоко, до царя далёко, пойду-ка запишусь к большевикам-ка…» Небось не слыхали такой песни, хе-хе? Так что вас интересует?
— Все, что в городе делается.
— Видите ли, фрау, — самозваный резидент уже обращался исключительно к ней, вообразив, что «из двух горбунов она рангом повыше», — страшная жизнь в городе. Темень, ночь ото дня не отличишь, все часы остановились. И на небо страшно взглянуть, чтоб по солнцу или там по звездам определить… А спросить не у кого, боятся показать, что часы имеют. — Шепотом: — Золотуха идет. Держи тут фотографию открытой круглые сутки. Нечаянно запрешь в рабочее время — упекут. Спасибо, что еще на людей не кидаюсь, а то ведь кидался один. Царство ему небесное, страдальцу, помешался. — Быстро озирается по сторонам и крестится. — Совсем недавно… как вспомню, брр… Меня вдруг сон стал брать, а ведь сколько я уже не сплю, двадцать лет, поди. А тут захотелось, да как! Ничего не соображаю. Ключ в замке повернул и прямо на пол. Тепло по всем членам разлилось. Еще в школе нас учили, был такой чудеснейший учитель, Аверьян Аверьянович, человек благородный, золото… Как с женой прощался, говорил: «Не бойся за меня, спасусь, за ворота выйдем, и спасусь». И едва за ворота с ним вышли — он головой о камень. Старичок совсем. Так-то с людьми из благородных металлов обстоит… И он нас, дураков, еще в школе учил: «У человека, прежде чем уснуть, по всем членам тепло разливается». И я хоть на полу, каждая косточка согрелась. Напоследок мысль греет: «А может, и право у меня сейчас есть на покой, может, ночь как раз?» Да только рабочий день был в разгаре, часов шестнадцать или четырнадцать. Стук в дверь. Я вскочил и как пьяный все равно. Кто-то в дверь дубасит. Он, видно, ногой, а я уж думаю, прикладами. Ключ пытаюсь повернуть — и не соображаю, в какую и сторону-то кручу, все не туда. А он слышит, что отпираю, а все равно стучит. Открыл. Стоит передо мной мужчина, высокий, видный, волос вьется, румянец во всю щеку — страшнее смерти. «Так, спим. На посту». И вошел. «Ну, — думаю, — если он вошел с этим, то выйдет со мной». А он повсюду заглядывает и приговаривает: «Кто работу просыпает, того родина… что делает?» — и смотрит на меня. «Карает», — шепчу. «Правильно. А кто привык снимать лишь пенки, того нужно ставить… куда?» — «К стенке». — «Правильно. Это и дети в школах знают, а тебя чему в школе учили?» Тут нашло на меня что-то, и я говорю: «Серый заяц под кустом храбро грыз капустный лист». — «Что-о? Что ты сказал?!» Я снова: «Серый заяц под кустом…» Он как разорется: «Ты что! Захотел, чтобы с тобой сам майор Котенко разбирался? — И пошел-поехал: — Да знаешь ли ты, кто такой майор Котенко?» И вдруг занавеска заколыхалась, раньше тут занавеска была, — показывает на нишу в стене, — ситцевая. Я ее снял, от греха подальше, ситцевую-то… И выходит человек — маленький, червячок чернявенький. «А откуда, — говорит, — вам, гражданин, известно про майора Котенко?» Тот с лица спал, слова сказать не может. А чернявенький свое: «Это очень интересно, пройдемте-ка со мной». Он уж в ноги: «Не губите, я ничего не знаю, я пошутил все это, у меня дети, жена, умоляю, я ничего не знаю, попугать решил». Нет. «Гражданин, встаньте и пошли». Делать нечего, встал, и пошли. А я остался. Чего он там им наговорит…
С полминуты фотограф молчит. Быстрым движением достает из щели между половицами какую-то бумажку: «Вот!» Глаза его как-то сразу засверкали, и я вижу: в них стоят слезы. «Вы думаете, мы уже все растеряли? Знайте, у меня есть тайник, и в нем — это». Он разворачивает бумажку, в ней нательный крестик. Целует его и плачет. Затем прячет в прежнее место.
— А теперь я вам расскажу про майора Котенко.
Малолетняя преступница его перебивает:
— Мне сейчас надо уйти. Вернусь через двадцать минут. — И мне на ухо: — Милый, уже три, промтоварный открылся. — Громко: — Вы пока побеседуйте.
— Будьте осторожны, фрау! — кричит ей вдогонку фотограф. — Так вот, этот майор Котенко. Я о нем, конечно, не много знаю, только, что люди говорят. Ни когда он приехал в наш город, ни как выглядит — ничего не известно. Говорят, что много тайн хранит, из былого. А еще проживает в нашем городе один офицер, Еремеев такой. За кого он в душе, сказать трудно, может, ихний, а может, и нет… — Фотограф понизил голос и поднял палец, но тут же опустил. — Вообще-то человек неплохой. Я его откуда знаю — у него квартира в этом доме. Его весь второй этаж, прямо над нами. Все пять комнат. Жена его, Элен, удивительная красавица. Вы, может, ее увидите еще. Не увидите, так поверьте, второй такой не найти. И якобы майор Котенко стал на нее метить. Сам же по всему городу слух об этом пустил. Якобы провоцирует на контрмеры. Высунься. А нет, так моя хата с краю, мало ли какие сплетни ходят. Но в действительности у него совсем иные намерения были. Дошло это до Еремеева, возможно, что и с приукрасами даже. Только Еремеев свою жену хорошо знает и смекнул, благодаря приукрасам этим, что тут к чему да как. Что не жена его майору Котенко нужна, а квартира. Жена — это ширма, для отвода глаз. Чтоб он, Еремеев, голову потерял от ревности, с дураком всяко легче справиться. И держал Еремеев военный совет с Еленой Ивановной, как дальше быть. Елена Ивановна, умная женщина, говорит мужу: «Наши дела с тобой плохи, Мордаш. Хоть ты из первого боя и победителем вышел, разгадал его план, это лишь временный успех, как у Спартака. Нас то же самое ждет. Сдаваться надо. Это выгодней всего, пока враг думает, что у тебя есть надежда и ты ярый. Условия тогда почетные будут». — «Нет, — сказал Еремеев, уязвленный словами жены, — не так я слаб, как ты думаешь. У меня свои расчеты, и голыми руками меня не возьмешь». А его и впрямь взять не так-то просто. Солдаты за него горой, старослуживые. Ведь знаете — у каждого винтовка в шкапу. Так Котенко что сделал — он его вчера обманно из комендатуры выманил. Прислал вестового, что с дочкой худо, со школы сама идти не может. У него дочка восьми лет, Дора. Они с женой ее Дочей называют. Сам он Мордаш, жена его — Элен Прекрасная. А Доча эта даже из дому не выходила, она и правда больная, уже второй день. Сперва думали, простыла, а теперь и никто не знает, что с ней. Бежит, значит, Еремеев в школу, без охраны, шинель по ветру, фуражка в руке. Многие видели, как он бежал. Говорят, сердце разрывалось на человека смотреть. Прибегает, а ему: «Мы не знаем ничего, ваша Доча уже два дня как в школу не ходит». Тут понял он, что это ловушка, и назад — только бы до комендатуры добежать. Добежал, а комендатура-то полыхает огнем. Кругом пожарные, воду качают. Солдаты докэменты спасают. И командует всем майор Котенко. А где Еремеев? Нету Еремеева. В момент пожара его на месте не оказалось. Что тут будешь делать? В темный переулок, шинель долой, звезду долой, кобуру долой, пистолет за пояс — и исчез человек. Как будто никогда и не было. Квартира еще за ними числится, только день прошел… тихо…