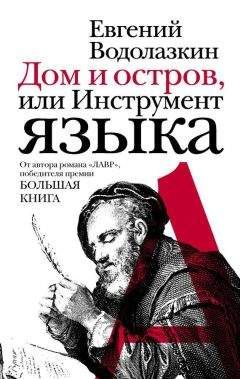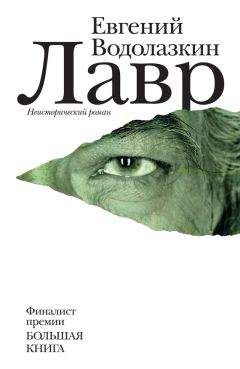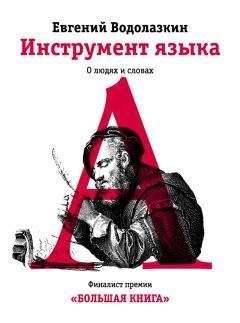Чудо как предчувствие. Современные писатели о невероятном, простом, удивительном (сборник) - Водолазкин Евгений Германович
— Ты хотела сказать: «эту паршивую Барби»? — добавил Андрей Сергеевич.
— Нет! — вскричала Нина Викторовна. — Эту прекрасную, бесценную, любимую Барби! Зачем ты про нее так?
— Извини, — сказал он.
Нина Викторовна продолжала:
— От жалости к себе я заплакала. Потом пошла дальше, вокруг дома. Но воткнулась в совсем непроходимый шиповник, и повернула назад, и опять прошла мимо крыльца.
На крыльце стояла Маша.
Мы встретились глазами.
— Зачем ты наврала, что уехала? — спросила я.
— Это бабушка наврала, а не я! — ответила Маша. — А ты подслушивала. Подслушивать подло! Ты подлая! Ты очень подлая!
Наверное, она хотела произнести страшное слово «воровка», но все-таки не решалась.
Я опять заплакала, потом вытерла глаза рукой и сказала:
— Я честно не крала твою Барби. У меня ее правда отняли. Какой-то сретенский мальчишка. Я правду тебе рассказала.
Маша посмотрела на меня и вдруг сама заплакала во всю силу. Спрыгнула с крыльца ко мне, обняла меня и сказала:
— Всё, всё, всё. Пойдем ко мне.
— Они на меня злятся, — я мотнула головой к двери.
— Тогда завтра! — Маша продолжала меня обнимать. — Я с ними все улажу. Все им объясню. А ты приходи завтра, прямо после завтрака. Поедем на великах кататься. Или вот с Игорьком на лодке. Он к нам на целый месяц, в отпуск, — и вдруг прошептала, сплетническим голоском: — У него денег нет на море поехать. И у его папы с мамой тоже нет денег. Они попросили, чтоб он у нас на даче поотдыхал. Он хороший. Приходи!
Мне стало легче. Но все-таки я спросила:
— Ты мне веришь, что я не крала твою Барби?
Маша обняла меня еще крепче и прошептала в ухо:
— Неважно.
— Почему это неважно? — Я пыталась отстраниться и посмотреть ей в глаза.
Она не давалась. Она горячо дышала мне в ухо:
— Потому что я тебя прощаю! Прощаю навсегда! Бери себе!
Ах ты черт…
— Не надо меня прощать! — закричала я, выдралась из ее горячих и липучих объятий и убежала.
Вот тут я точно решила, что мне надо повеситься.
Родителям жаловаться было бессмысленно. «Ерунда, брось!» — сказал бы папа. И мама бы подхватила: «Тоже мне проблемы!» В этой истории они были на моей стороне, я ведь им все тут же рассказала. Да, конечно, на моей стороне, но как-то очень легко. Не вдумываясь. Барби для них была просто кукла. И слова Маши и ее бабушки — просто слова.
Ночью я два раза просыпалась и смотрела на пустую кроватку Барби — то есть на пустую конфетную коробку. В ту единственную ночь, когда Барби — моя Варенька, моя святая Варвара — спала здесь, из коробки поднималось тихое жемчужное сияние. Я думала — вдруг она вернется. Но было темно.
После завтрака я взяла прыгалки и пошла вешаться.
Но все-таки решила в последний раз зайти к Маше Волковой. Потому что она сказала, что прощает меня и дарит мне Барби, а я сказала «не надо». То есть как будто бы согласилась, что я украла, но отказалась от прощения.
Я пришла к ним, проскользнула в приоткрытую калитку — ах, времена, когда почти половина наших жителей не запирали калитки и заборы были с редким штакетником, — но вдруг раздумала объясняться с Машей. Там, прямо за воротами, был широкий въезд для машины — а тропинка рядом. Я набрала светлых камешков по бокам въезда и выложила на темном утоптанном шлаке — «я не крала Барби!». Я уже совсем заканчивала, но сзади раздались шаги. Я дунула прочь, побежала по аллее и услышала, как этот ихний племянник Игорь выскочил из калитки — калитка громко скрипнула старой пружиной, и топот за мной, он кричал «стой, стой!» — но я припустила к лесу. Он бы все равно меня не нашел. Я в лесу знала все тропинки.
Там было мое любимое место. Вечная лужа, вроде маленького болотца, и над ней раскидистое дерево, пригнутое книзу, с толстыми сучьями и узкими серебристыми листьями. Кажется, ветла.
В этой луже водилась странная лягушка, почти желтого цвета с пятнышками, я ее давно заметила. Вот и сейчас она выглянула и на меня посмотрела. Я ей подмигнула и развела руками — вот, мол, какое неприятное зрелище тебе предстоит, сестричка. Лягушка на всякий случай нырнула и спряталась.
А я полезла на ветлу налаживать петлю из прыгалок. Странное дело, я совсем не думала о маме с папой, и вообще ни о ком и ни о чем.
— Стоп! Стоп! Совсем с ума сошла! — этот самый Игорь прибежал.
Догнал и нашел, вот беда. Интересно, это все милиционеры такие дико ответственные?
Он чуточку подпрыгнул и дернул меня за ногу. Я свалилась с широкой толстой ветки, прямо ему в руки. Он поставил меня на землю. Тут мне стало страшно. Наверное, я представила себе, как это больно и противно — вешаться. Я даже села в траву. Стиснула руками колени, чтоб не было видно, как они дрожат. Ну а что делать? Больно, противно, а надо.
Игорь сел рядом со мной, обнял меня за плечо.
Я резко отодвинулась и, наверное, еще сильней задрожала.
— Не бойся! — сказал он. И повторил: — Не бойся меня, я ничего…
— Я не боюсь, — перебила я. — Я все знаю. Книжки читала, картинки видела, девчонки рассказывали. Твоя Машенька в том числе. Мне все равно. Я сейчас умру. Хорошо, не сейчас, через пять минут, какая разница?
Он привстал, снял куртку, пошевелил рукой в траве, нащупал и отбросил какой-то сучок или камешек, разгладил зелень, постелил куртку.
— Ложись на спину и закрой глаза.
Я легла. Мне было совершенно все равно. И даже чуточку интересно. Даже на время расхотелось вешаться. Я подумала, что повеситься всегда успею. Тем более после «этого», потому что мне тогда уж точно будет нечего терять.
Я лежала так несколько минут. Мне казалось, что долго. Потом я чуть приоткрыла глаза. Увидела, что он сидит рядом с блокнотом в руке. Он сказал:
— А теперь спокойно подыши. Как будто перед сном. Не жмурь глаза изо всех сил, а легонько так прикрой. И постарайся вспомнить, как это все было. Этого парня. Его одежду. Его велосипед. Главное, не спеши и спокойно вспоминай.
Я не могла вспомнить его лицо. Но я помнила руки. Царапины. Сбитые костяшки пальцев. Ковбойка в клеточку. Белая пуговица на груди. Коричневые кеды. Велосипед. «Темно-красная рама. Руль, обмотанный синей изолентой. Звонок на руле слева. Еще изолента на раме, но теперь зеленая, грязная. Педали без резинок, ободранное железо», — шептала я.
Игорь раскрыл блокнот и стал записывать.
Потом сказал:
— Если ты на самом деле все так хорошо запомнила, мы его найдем. То есть в смысле, я его найду. Вставай. Пошли.
— Прыгалки забыла, — я показала на дерево.
Он ловко залез на этот толстый боковой сук, отвязал прыгалки, кинул мне.
Я протянула ему руку, чтоб он помог мне встать.
— Сама, сама! — сказал он.
Через три дня ко мне пришла Маша, очень мрачная.
— Игорек зовет. Надо в Сретенское съездить.
Мы ехали на его жигулях.
Он говорил:
— Послушайте, девчонки. Вот я старше вас на десять лет. Работаю в милиции. Но я тоже все время удивляюсь, какая бывает жизнь. Удивляюсь, какая она некрасивая и тяжелая. Никак не могу привыкнуть. Это понятно. Мой папа — полковник. Мама — директор школы. А мой дядя — сам Петр Петрович Волков! — и он подмигнул Маше в зеркальце заднего вида. Как-то льстиво подмигнул — со злостью отметила я. — Да, девчонки. Я с детства жил в удобстве, в тепле и уюте. Не знал, да и сейчас до конца не знаю, как люди на самом деле живут…
— А как они на самом деле живут? — спросила Маша.
— Сейчас увидишь.
Машина остановилась у длинного деревянного дома. Я знала, что такой дом называется «барак». Мы иногда ездили в Сретенское на великах — полчаса в оба конца, — покупали там мороженое в магазине, а на обратном пути через мостик видели эти бараки — ближе к речке и старой фабрике. Но туда не ездили. Нам все говорили, что туда не надо. Могут велики отнять, побить или вообще.
Мы прошли по коридору барака. Игорь толкнул дверь.
Да. Он правду говорил. Такого разора, грязи и вонищи я никогда глазами не видела и носом не чуяла. Пахло жаревом, куревом, потными подмышками и ночным горшком. Три кровати. Одна — высокая железная. Другая — низкий топчанчик. Третья тоже железная. Много табуреток. Электроплитка, на ней суп варится. Велосипед в углу, с красной рамой. Рама обмотана изолентой. На высокой железной кровати сидит старенькая тетка (теперь я понимаю, что ей было лет сорок). На топчане — мальчишка не старше пятнадцати. Тот самый. А на третьей кровати лежит какая-то бледная немочь с серыми волосами, как пакля, и поверх одеяла у нее — Барби. И она вцепилась в нее своими костлявыми пальцами с грязными ногтями.