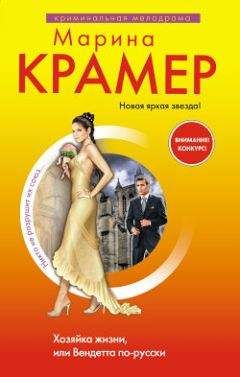Тоска по окраинам - Сопикова Анастасия Сергеевна
Она раздражалась от их самовлюбленной бестолковой болтовни всё больше – и от злости этой, от досады на них почти ничего не съела. Листала снимки на фотоаппарате, широко зевала, и наконец прошлепала в комнату, и уснула там под мерный бубнеж («не, ну а че ей? че ей одной?») прямо в колготках и свитере.
Проснулась она посреди ночи, внезапно, как от толчка, – и, кажется, долго вспоминала, почему на нее смотрит собственный силуэт в зеркальной дверце шкафа, откуда здесь допотопный компьютерный стол, скользкое одеяло… Рядом с ней, на другой половине большой кровати спала, запрокинув голову, мать, – а напротив на диванчике мостился, как говорили у них на родине, отец. Не стали ее будить. Надо же. Она полежала еще какое-то время, прикрыв глаза, стараясь тоже упасть в эту теплую дремоту, присоединиться к ним. Между-матерью-и-отцом, правильный миропорядок. Правильный порядок старого мира. Как мое место на магазинной полке, всегда одно и то ж.
Вдруг ею овладела нервозность. Я почувствовал, как ей хочется ухватить этот момент, эту внезапную, пришедшую на смену раздражению нежность пополам с чувством вины к ним, надоедливым, стареющим, но всё же родным… Захотелось, наверное, сделать что-то хорошее для них, обнять, к примеру, их спящие тела, немедленно, сейчас же – как мне иногда хочется обнять ее, жалкую… Были бы руки. И внезапный этот порыв, и теплый вибрирующий полумрак – всё это было очень похоже на счастье. Даже из моего угла. Она, наверное, попыталась в уме сложить это чувство в какие-нибудь формулы, как делает постоянно, дура, – но они, эти формулы, все сплошь были пошлостью и ерундой. Тогда она проскользила по теплым полам на кухню, и сжевала там остаток бутербродов с соком, и долго еще думала о своем, глядя в темноту мокрого двора-колодца. «Козетта, – почему-то прошептала она, качая головой. – Козетта и Гаврош».
Утром она встала позже всех – родители уже собирали чемоданы, гремели ложечками, банками, купленными вчера магнитами на холодильник, которые зачем-то завернули в листы газет. Она села на кровати, оглядывая пространство временной – на пару недель, перед заселением в общежитие, – квартиры, со всеми четкими, въедливыми, противными детальками чужого быта: грязный домовенок над компьютером, рукав чьей-то куртки торчит из шкафа-купе, на белье вышиты инициалы зелеными нитками. Вот тут-то она и поняла, что не спать ей отныне никогда в сонной домашней дремоте родного дома, в вибрирующем родном воздухе, в безопасности и теплоте. Кончено, ça fini [2].
Через неделю она перебралась в общежитие. Меня и еще один чемодан тащила какая-то тетя Галя, дальняя родственница, – интересно, почему же не ее Шнырь?
В ее корпусе стены были выкрашены казенной зеленой краской, неопрятно, с пузырями там и тут, по углам гнездилась неприятно коричневая мебель. В душе лежала холодная дешевая плитка, везде были щели, по комнатенкам вечно гулял сквозняк, и двери хлопали туда-сюда с противным звяканьем дешевых замков. Пару раз замок клинило, она оказывалась заперта – то внутри, то, наоборот, в коридоре, в одних легких тапочках. Общежитие это тоже было построено в форме колодца, на окнах не было ни карнизов, ни тем более штор – по вечерам она садилась на кровать и тупо смотрела в освещенное миллионом чужих огней пространство. Вот так же, как тогда, на Обводном. Нет, не совсем так.
На занятия мы едем, добираемся два часа. Ровно два часа – с той минуты, как она выбегает на остановку, привычно заталкивается в выстуженный салон маршрутки, отсчитывает полтинник, – и до самого крыльца университета. Я болтаюсь на коленях, нафаршированный Поповой-Казаковой, тетрадью на крупных кольцах, кошельком, ключами, перчатками. Термоса не бывает – чай нужно долго заваривать, закручивать, остужать. А у нас пока даже чайника нет, и мы ходим на кухню кипятить воду в маленькой кастрюльке без ручек. Но иногда не успеваем и этого. У нас вообще утекает всё мимо, мы только и делаем, что бежим.
Поэтому-то на прошлой неделе у нас кончились деньги. Просто взяли – и кончились.
Конечно, она сама виновата – надо было сделать льготный проездной и ездить, как все, стоя, на муниципальном автобусе. Конечно, нужно было варить серую гречку с сосисками, и обедать капустным супом, и жевать оранжевый витаминный салат, и глотать осклизлые макароны в столовой. Немножечко терпишь, потом привыкаешь. Мы смотрели на эти тарелки, мы смотрели на рачительных одногруппников – Таня с бараньей челкой, которую подстригает сама портняжными ножницами, дохлик Антон с компотом, кто-то греет на батарее контейнер с хлебной котлетой. «Завтра, – кивала она. – Завтра – непременно. Купим контейнер, сварим осклизлых макарон, кетчуп своруем в буфете. Завтра». И она даже заранее страдала и гордилась собою завтрашней, при этом судорожно, быстро-быстро сгружая на поднос наваристый борщ, куриный шницель, оливье с говяжьим языком и чай горячий, и еще пирожное «Наполеон». Есть хотелось больше обычного, нестерпимо, от холода и сквозняка вечно сосало под ложечкой. И никакой витаминный салат заглушить этой тяги не мог. В подвале, где первокурсники занимались грамматикой, было холодно даже мне, лопались мои кожзамовые ушки, трескались мои вышитые леской глазки. Хотелось есть, хотелось под казенное одеяло, к батарее, в тишину, в тепло. Я изо всех сил грел ей колени, пуховик обнимал плечи, она натягивала даже шапку и без конца дышала на кулачки и стержень фиолетовой ручки.
Отец по телефону буркнул что-то невнятное. Мол, денег на весь этот переезд и так потрачено немерено. Мол, конечно, в беде не оставим, но у самих нет… Мол, вообще-то здоровая ты кобыла, пора бы научиться и готовить, и экономить уже. Подработку бы взяла, а?
Сначала она даже задохнулась от возмущения. Я учусь, учусь бесплатно в лучшем вузе страны, подслушанным где-то в сериалах тоном, который должен звучать ледяным, отвечала она. У меня занятия каждый божий, да-да, каждый божий день. Куда я пойду работать? Вы знаете, где я живу? Отец попытался возразить, но тут она – уже очень умело – прервала его обиженной тирадой, в хлюпающий нос. Ладно, буду питаться одной гречкой. Гречей. Сидеть на хлебе и воде. Да. До свидания. Спасибо.
И бросила трубку на соседнюю – застеленную целлофаном, пустую – кровать.
Отец перезвонил через полчаса – крепкий! Ну не пузырись. Считай лучше деньги. На́, возьми, гречку же ты не ешь. Но учти, это последнее. Она примирительно вздохнула и положила трубку уже тихо, по-нормальному. Сморщилась даже от неловкости и стыда. И задумалась.
Смеркалось, дуло в щели, на форточке снаружи раскачивались, как флаг, ее продукты. Сиротливый пакетик. Холодильники в общежитии и не предполагались, желающие могли купить их сами, – поэтому почти на каждом окне болталось по вот такому пакету. Она еще повздыхала, даже всплакнула – наверное, при мысли о гречке с сосисками – и погасила свет.
А наутро нас разбудил стук. Мерный, настойчивый стук в двойное стекло. Она потерла глаза, встала на коленки – и дальше я, валявшийся за шкафом, слышал только ее визг, какой-то особенно отчаянный, местами тонувший в шуршании несчастного белого пакета.
– Сука! Ну как это возможно? Сука! Ну что это за жизнь, а, ну что за жизнь!
Она выбежала в коридор, куда-то мимо меня, держа двумя пальцами за край несчастную пачку майонеза, проклеванную в десятке мест.
– Ворона съела мою ветчину, прикиньте! – Шуршание. – И даже майонез! На кой черт он ей сдался, а?
Послышались чьи-то смешки и охи.
– А она не помрет теперь? – спросил кто-то.
– Это я такими темпами могу помереть! – воскликнула она. – От голода.
Она вернулась обратно и обреченно упала обратно в кровать, лицом вниз. На завтрак больше ничего не было – и деньги, последние, теперь уже точно последние, – теперь нужно было считать аккуратно. Сверхаккуратно.
Выдержала она ровно десять минут. Потом рывком вскочила с кровати, накинула розовую парку и в одних тапочках побежала куда-то. Догадка моя оказалась верна – назад она пришла спокойная, вальяжно раскачиваясь, с шоколадным батончиком в одной руке и бутылкой газировки в другой. Из-под капюшона торчала ее виноватая улыбка. Желудок победил в неравной борьбе.