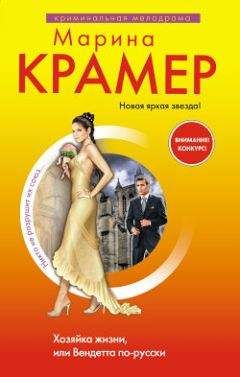Тоска по окраинам - Сопикова Анастасия Сергеевна
– Подожди, – я тронул ее за локоть. – А кто это… другой? Я его знаю?
Катя посмотрела с брезгливой жалостью, как на паука, которого вот-вот раздавит.
– Ты его знаешь, Мишутевский.
Меня вдруг осенило.
– Это Лумпянский, да? – Я сжал Катино предплечье. – Лумпянский?
– Отвали! – Она сбросила мою руку сильным движением. – Слушай, Миша, не надо мешать им, ладно?
Но отвалить я не смог. И не мешать – тоже. Во мне проснулась жажда мщения.
От Минской улицы до Асиного дома – одна остановка. От Минской улицы до моего – три. Выбор, как говорят в рекламе, очевиден.
Я пришел к ней во двор, на красные петунии, под раскидистые платаны, и что там еще у них растет. Мне, признаться, было не до платанов, меня трясло от злости. Гусь? Гном? Пытался облапать? Слюнявил? Приставал?
И когда у них всё началось с Лумпянским? После поездки? Или даже раньше?
Дурак, дурак и кретин!
Я нашарил взглядом ее окна – самое правое, окно ее комнаты, горело желтым светом. Вот и замечательно. Где-то играл кларнет, простейшие гаммы. Ничего, он мне не помешает.
– Ася! – заорал я, приставив руки рупором ко рту. Совсем как зазноба на старой аватарке. – Ася! Ася Миронова!
Никто не отвечал, кларнетист продолжал кататься туда-сюда по нотному стану.
– Ася! Отзовись ты, слышишь! Ася-а-а-а! – я даже назвал ее настоящую фамилию, из одних глухих и шипящих. – Асенька-а-а-а!
– Чего ты тут разорался? – вдруг прозвучало над ухом.
От неожиданности я подпрыгнул и развернулся. Позади меня стояла Ася и в недоумении рассматривала мою глупую физиономию.
При виде нее, как всегда, моя решимость куда-то испарилась. Она была одета в полупрозрачный топ с красными цветами и длинным вырезом, с декольте, как говорят дамы постарше. Я рассматривал белые полоски на ее плечах и груди, потемневшие длинные руки, совсем короткие шорты, напряженный, какой-то повзрослевший взгляд. Она была совсем не накрашена, скулы блестели от пота, губы совсем голые и сухие.
– Я тебя ищу, – со всем возможным спокойствием ответил я. – Надо поговорить.
Ася пожала плечами – хорошо, мол, поговорим. Почему-то озираясь по сторонам, как будто прятала серийного убийцу, она завела меня за соседний дом, точно такой же, как ее собственный; они торчали из-под земли, как ряд костяшек домино. Мы сели на скамейку.
– Слушаю, – холодно сказала Ася.
Я выдохнул. Что мне сделать? Что спросить? Я шел сюда в надежде оттаскать ее за волосы, накричать – или хотя бы узнать: почему Лумпянский? Чем его карлсоничья фигура лучше моей собственной? Чем он талантливее? В чем умнее? Неужели дело только в высоком росте – ну так ведь не может быть, Ася? Или в том, что у него полно девчонок, кроме тебя, и что он разобьет тебе сердце? В этом дело, Ася? В смазливой роже и квартире на берегу цветущего водохранилища?
Но вслух я сказал вот что:
– Я люблю тебя, Ася. И ты это знаешь.
Она вздохнула – раздраженно и виновато, опустив взгляд на свои высокие безвкусные босоножки, из которых смешно торчали большие пальцы ног.
– А я не люблю тебя, Миша. И ты это знаешь тоже.
Не знал, дорогая Ася, оказывается, не знал. Иначе с чего бы у меня так ухнуло, с мерзким тошнотворным свистом провалилось куда-то в желудок сердце? Предательски задрожали губы, захотелось что-нибудь тревожно помять в руках – например, твою наглую сучью морду. Или морду Лумпянского. Я не знал этого, Ася, хотя думал, что знаю.
– И что же, – противно сморщившись (держись, Михаил, ты великий актер), – ты теперь будешь с Лумпянским, да?
– Это не твое дело, – Ася помотала головой.
– А почему, – уже еле сдерживался я, – почему бы не сказать мне раньше, что это не мое дело, а? Зачем я приезжал к тебе, зачем отдавал свою куртку и потом валялся с ангиной, зачем дарил цветочки вместо завтрака, зачем ездил на твою гребаную говнарскую группу, зачем засылал тебе каждый день свои записки и песенки?..
– Я не знаю, зачем ты посылал мне песенки, – перебила Ася. – У меня даже наушников дома нет. Не слушала я твоих британцев, уж прости великодушно.
«Прости великодушно» – это у нее любимое. А еще «жесть». Вот это была «жесть».
Я вскочил со скамейки и встал прямо перед ней.
– Зачем было приглашать меня тогда к себе? Чтобы отшить потом? Отлупить по рукам, как вора? Посмеяться со своей жирной пингвинихой Катей?
– Ты пафос-то свой актерский поумерь, – Ася сморщилась и отвернула лицо. – И отойди от меня.
– Я тебя тогда не звала, – тихо добавила она, когда я снова сел на скамейку. – Точнее, я звала, но не тебя. А кого звала – не пришел, понятно?
– Это Лумпянский…
– Тише, не ори ты!
– Это Лумпянский, – я перешел на крикливый шепот, – тогда не пришел, да? Или пришел все-таки? После меня, да?
– Какая разница, Миша, – начинала злиться Ася. – Какая разница? Я тебе ничего не обещала, я сразу сказала, что ты мне не нужен, – еще зимой, в парке. И если ты этого не понимал, значит, не хотел понимать, ясно? А это уже не моя проблема, мальчишечка, – она выпрямила одну ногу, рассматривая ее, как заправская сучка, тоже актерствуя, хоть и сама того не понимала. Глупая, злая, жестокая девка.
– Ясно, – ответил я. – Кстати говоря, можешь записать мое колено в список своих любовников. Если он еще не переполнен, конечно.
– Пошел ты к черту! – заорала Ася. – Ты просто сраный гусь! Посмотри на себя – ты ходишь, отклячив жопу, чтобы выше ростом казаться! Носишь эти бархатные панталоны, довольно улыбаешься и чего-то еще воображаешь… Что ты там думал, – с мерзким хохотом распалялась она. – На что ты надеялся, а? Ты гусь, ты гном, ты бездарная лохмотня и позор профессии! И я еще тебя жалела! И я еще просила Катю поговорить с тобой помягче – с тобой-то…
Не дослушав поток ее ругани, я встал, выпрямляясь во весь неказистый свой рост.
– А всё ж таки я тебе нравлюсь, – и круто повернулся к дому.
В самом конце дорожки я не выдержал и обернулся. Ася еще сидела там – и тряслась от беззвучного смеха, гремела вся, от увесистых круглых сережек до браслетов на загорелых запястьях; хохотала, запрокинув ноги в серебристых босоножках на убогой плетеной платформе, обнажая всему миру свой мокрый лифчик и пошлую грудь в вырезе прозрачной кофты, потрясывая своими толстыми ляжками, которые перетянула, словно кусок колбасы.
Ржала, как настоящая шлюха.
Трактир Тенардье
<b>28 октября</b>Tout a commencé avec une feuille de papier.
Une réclame. [1]
Une réclame, объявление на тонкой бумаге «Снегурочка», тут же примялось учебником французского для первого курса. Медамс Popova-Kazakova, переплет цвета бордо. Ключи к упражнениям продаются отдельной книжечкой.
Книжечку одолжил Шнырь. А меня взяли в «Галерее».
В тот день, два месяца тому назад, лил ледяной дождь, даже с градом. Так что в тепле магазина ее родители размякли, потеряли бдительность и, сами того не заметив, согласно кивнули на кассе и выложили в обмен на меня целых четыре купюры. «Ну вот, хоть будет, в чем тетрадки таскать». «И термос», – важно добавил отец. Я пискнул на прощание родной витрине, и тут же, прямо в нарядном коридоре торгового центра, сменил на посту ее старый рюкзак, тканевый, из какого-то хиппового магазина для автостопщиков, весь в грязи и наклейках. Я, в отличие от него, по багажным отделениям еще не катался, никогда не промокал и выглядел солидно, даром что носил на себе звериную рожицу.
Под дождем мы все влезли в сонный трамвай и доехали до Обводного, под дождем копались в финском магазине, заваливая доверху тележку, невесть зачем покупая еды впрок, под дождем плелись, спотыкаясь в лужах, на съемную квартиру за углом. В съемной квартире был пол с подогревом, но почему-то только на кухне. Ее мать по привычке встала у плиты и всё резала-резала-резала бутерброды из соленой красной рыбы, отец опрокидывал рюмку и водил туда-сюда влажными пьяненькими глазами. От простуды. «Хорошо бы тебе, Настька, такую квартиру», – оглядывалась кругом мать. «Мало-ва-а-а-та», – крякал осоловевший отец. «А че ей одной? – рассуждала мать. – Вот че ей? Вещи туда, там спать, там стол, тут кухня… Колонка, правда, зараза…»