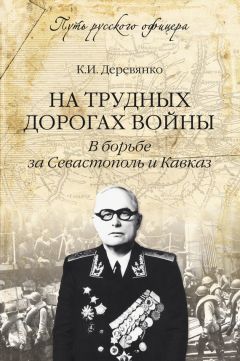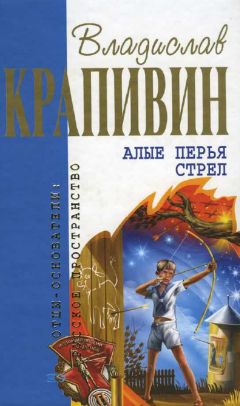Перья - Беэр Хаим
— Драгоценная она женщина, — сказал Ледер.
— Кто? Госпожа Шланк? — удивился я.
— Проснись уже, ты не в школе, — сердито бросил мне Ледер.
Главной слабостью мисс Кэри он считал романтический взгляд на мир:
— Ее храм трех религий, эти чаепития с Мусой Алами, настоятельницей Тамарой и доктором Магнесом [179], бедуинские абайи с золотым шитьем — все это не те вещи, с которыми ты можешь явиться сегодня в жестокий мир. Конечно, мисс Кэри застроила Рас-ар-Раб замечательными домами, гостеприимно поджидавшими ее единомышленников, которые явятся со всех концов света скрасить ее досуг и помочь ей в осуществлении идеи всеобщего религиозного братства. Но дома — не главное. Если их не разрушит война, то заберет социальная служба, чтобы разместить там психиатрический санаторий или убежище для сбившихся с пути девушек, благо эти дома находятся в удалении от города. А построенную ею церковь возьмет себе армия. Место там высокое, удобно антенны ставить.
Дома — не главное, — Ледеру явно понравилась эта чеканная фраза, и он повторил ее несколько раз, прежде чем перешел к своему практическому выводу: — Тот, кто хочет осуществить утопию, должен вести настойчивую пропаганду своих идей, а не сидеть в уютной пещере, поджидая случайную добычу.
Весь фасад здания на противоположной стороне улицы был обклеен предвыборными плакатами партии МАПАЙ, и повторявшаяся там во множестве буква алеф [180] придавала ему вид страницы из ученической тетрадки первоклассника. Указав на это здание, Ледер заметил:
— Только благодаря основательности и упорству Бен-Гуриона, который в тридцатых годах ездил из местечка в местечко и убеждал сионистов голосовать за него, вся еврейская Европа пала к ногам социалистов, как спелый плод.
Ледер отодвинул одну из настенных занавесок, и глаза Поппера-Линкеуса на портрете наполнились задумчивым восхищением. Его и нашим взорам предстала мазонитовая плита, к которой посередине был приколот кнопками лист бумаги с надписью «Деятельность в кружках и группах». От него во все стороны тянулись нити, привязанные своими противоположными концами к булавкам с цветными головками. Каждой такой булавкой к плите был приколот листок, надписанный аккуратным почерком. Ледер переводил свой жезл от одного листка к другому: «Организация владельцев прачечных», «Клуб женщин „Мизрахи“ — Оман» (здесь Ледер счел нужным пояснить, что женщины — самые активные потребительницы продовольствия, и поэтому в их руках находится ключ к успеху всего проекта), «Синагога „Шират Исраэль“», «Кооперативная столовая», «Фабрика Фридмана». Дойдя до верхней булавки, вколотой там, где на циферблате часов было бы указано 12, Ледер торжественно прочитал:
— Венский кружок.
Вену Ледер назвал главной ставкой в нашей игре.
— Люди ясного рационального мышления, препарируя факты холодным скальпелем логики, не без основания скажут, что никакого прока от Вены нашему движению не будет, — объяснял он. — Венцы большей частью привержены показной мишуре и ведут соответствующий образ жизни. Их рты если не напевают мелодии Иоганна Штрауса, то жуют дорогие пирожные, и, казалось бы, где они и где теория линкеусанства, вся основанная на императиве скромности и умении довольствоваться малым? Скажут, не лучше ли нам сберечь свои силы и предоставить венцев самим себе? Но что бы там ни было, Вене суждено стать духовной столицей грядущего линкеусанского царства, мощным магнитом для всех сознательных линкеусанцев, которые будут искать в этом городе отпечаток величия, оставленный благородным основоположником нашей доктрины.
Голос Ледера зазвучал так, будто он говорил издалека. В Вене разворачивалась жизненная драма Поппера-Линкеуса, в Вене им было создано его замечательное учение, в Вене навсегда закрылись его ясные очи, и там же, в распутной Вене, он, Ледер, часто бывал у великого мыслителя. Скромный дом основоположника в Хитцинге был свидетелем его человеческого подвига: полупарализованный, прикованный к своему креслу, страдавший жестокими болями Поппер не оставлял интеллектуальных трудов, и сюда, в Хитцинг, к нему приезжали лучшие люди того времени. Профессор Эйнштейн беседовал с хозяином дома о физике, бессмертный актер Александр Моисси ценил возможность поговорить с ним о сценическом искусстве, актриса Ида Роланд зачитывала Попперу знаменитые пьесы.
Но поистине незабываемым для Ледера оказался день 21 декабря 1921 года. Он был тогда в числе десяти человек, присутствовавших при бракосочетании Поппера с его помощницей Анной Кранер. Церемонию проводил раввин доктор Фойхтванг. Невестой великого человека была семидесятилетняя женщина, простая крестьянка-католичка из Бургенланда. Поппер называл ее Анерель, и она на протяжении многих лет преданно ухаживала за ним. Пожелав сделать ее своей законной наследницей, Поппер решил жениться на ней, и непосредственно перед церемонией бракосочетания Анна приняла иудаизм. В глазах у присутствующих стояли слезы, когда раввин, преклонив колени перед ложем умирающего Поппера, попросил того подписать брачный контракт. Рядом с раввином стояла Маридель, ближайшая родственница новобрачной. Одетая в нарядное платье, она скорбно осеняла себя крестным знамением.
На следующий день Ледер снова пришел навестить Поппера и узнал о его кончине. Голова великого человека покоилась на бархатной подушке, глаза его были закрыты. У тела стояли доктор Ганс Мартин, бывший личным врачом покойного, Мендель Зингер, профессор Ерузалем [181] и, конечно, две женщины, сопровождавшие Поппера на протяжении всей его жизни. Супруга профессора Ерузалема сообщила присутствующим, что Поппер, узнав о решении венского муниципалитета назначить ему почетную пожизненную пенсию, сказал, что у него осталось только одно желание — чтобы о праве называться его родиной спорили семь городов, как это было с Гомером.
— А снаружи Вена жила своей жизнью, и ей не было дела до угасшего в ее небесах светила, — продолжил Ледер. — Но возможно ли, что появление и исчезновение такого гиганта вообще не оказало воздействия на людские сердца?
Он находил подобное немыслимым и полагал, что жизнью и смертью Поппера на венцев было оказано таинственное влияние. В складки их сознания заброшены семена любви и почтения, которые непременно прорастут через какой-то срок, если не у современников Поппера, то у их потомков.
— Кто знает, возможно, решающий час настанет уже сегодня вечером, и нам нельзя его упустить! — воскликнул Ледер.
За окном начал накрапывать дождь, стекла снова запотели. Ледер расхаживал по комнате, потом подошел к окну и написал на нем пальцем свои инициалы. То же самое он сделал у второго окна. Сегодня вечером, объявил он, ему предстоит обрезать необрезанные сердца иерусалимцев и венцев [182]. Одновременно. Представители Старого ишува приглашены, в исключительном порядке, на встречу венского кружка. Расхожее присловье «нет пророка в своем отечестве» будет опровергнуто ныне дважды: выходцы из Вены признают учительство Поппера-Линкеуса, а иерусалимский Старый ишув, из среды которого вышел он, Мордехай Ледер, наконец-то признает величие своего земляка и собрата.
Стоя ко мне спиной, он стал снова выписывать на запотевшем стекле свои инициалы. Потом пририсовал к ним лучащийся глаз. Серое небо и кроны деревьев за окном то становились видны мне, то заслонялись его фигурой. Ледер насвистывал веселую песенку, и мне показалось, что он вообще позабыл о моем присутствии в комнате. Желая вернуть его внимание, я спросил, не подразумевает ли он под встречей венского кружка банкет, который устраивает сегодня наша соседка, мастер постижерных работ госпожа Рингель по случаю какой-то там годовщины визита императора Франца Иосифа в Святую землю.
— Откуда ты знаешь? — в голосе Ледера прозвучали удивление и обида человека, чья сокровенная тайна неожиданно оказалась достоянием посторонних. Я попытался успокоить его и стал объяснять, что госпожа Рингель и ее муж — наши соседи, что я часто бываю у них дома и лишь поэтому осведомлен о планируемом мероприятии. Ледер оставался глух к моим объяснениям. Мрачное недоверие не покинуло его, даже когда я поклялся, что покрою нашу дружбу позором, если выдам кому-нибудь его тайну.