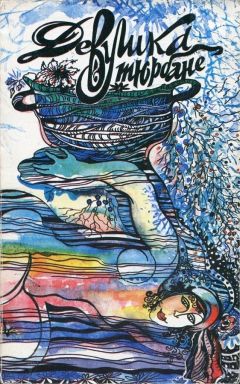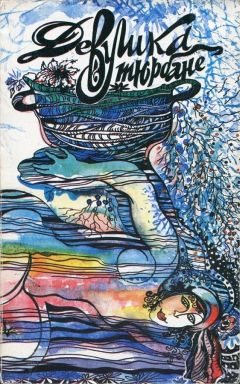Антонио Табукки - Из сборника «Девушка в тюрбане»
Когда я нашел постоянную работу в «Бикиньо», я написал дяде Альфредо, чтоб он не посылал мне больше денег. Зарабатывал я, конечно, не бог весть сколько, но особо и не нуждался, поэтому совесть мне не позволяла брать даже несколько песо из дядиных денег, ведь я знал, как трудно они ему доставались: с утра до ночи гнул спину в своей мастерской. В «Бикиньо», ночном ресторане, хозяином которого был Жуан Пайва, жизнерадостный толстяк из Бразилии, можно было поужинать в полночь и послушать народную музыку. «Бикиньо» было заведение с претензией на респектабельность, здесь очень старались, чтобы его не путали со всякими злачными местами, хотя спутницу можно было себе найти без труда, но делалось это крайне тактично, не без помощи официантов, так чтобы сделки имели благопристойный вид и не бросались в глаза. Сорок столиков с зажженными свечами и два столика в конце зала, рядом с гардеробом; за ними постоянно сидели две девицы перед пустой тарелкой, потягивая аперитив, как бы в ожидании заказа; если входил новый посетитель, проворный официант, провожая его к столику, походя спрашивал: «предпочитает ли сеньор поужинать в одиночестве или в приятном дамском обществе?». Мне эти дела были хорошо известны, ведь я как раз и обслуживал столики в конце зала, а те, что ближе к эстраде, были закреплены за Рамоном. Клиент требует деликатного обращения, не приведи бог шокировать подобными предложениями какого-нибудь сверхчувствительного субъекта; не знаю, как объяснить, но я клиента сразу чуял, нюхом, можно сказать, поэтому к концу месяца чаевые превышали мое жалованье. К тому же девицы, Анита и Пилар, кое-что отстегивали. Гвоздем программы в «Бикиньо» была Кармен Дель Рио, голос у нее, конечно, был уже не тот, но притягательную свою силу все же не утратил. Неповторимый тембр с хрипотцой, каким она в лучшие свои времена исполняла жгучие танго, с годами ослабел, сделался тоньше, и она тщетно старалась его вернуть, выкуривая перед выходом одну-две сигары. Однако у нее были и другие средства сводить публику с ума — не только голос, — тут все имело значение: и репертуар, и мимика, и грим, и костюм. За сценой у Кармен была уборная, битком набитая всякой всячиной, там же помещался ее великолепный гардероб со всеми платьями, которые она надевала в сороковые годы, когда имя Кармен Дель Рио гремело повсюду. Длинные платья из шифона, роскошные белые босоножки на высоченном пробковом каблуке, боа из перьев, шали для танго, парики — белокурый, огненно-рыжий и два черных как вороново крыло, с прямым пробором и белым гребнем, заколотым на андалузский манер. Кармен понимала, какое значение для нее теперь имеет грим, и гримировалась часами, тщательно работая над каждым штрихом: накладывала тон, клеила длинные ресницы, красила губы сверкающей помадой, как было модно в ее время, покрывала длинные ногти кроваво-красным лаком — словом, добивалась облика истинной женщины-вамп. Часто она советовалась со мной, что ей надеть из ее обширного гардероба, «у тебя, — говорила, — легкая рука и утонченный вкус», никому в «Бикиньо» она так не доверяла. А я, прежде чем дать ей совет, всегда спрашивал, что она собирается петь нынче вечером; ну, для танго она и сама знала, как одеться, а вот когда дело касалось душещипательных романсов, тут уж слово было за мной: обычно я отдавал предпочтение воздушным платьям и светлым, пастельным тонам, скажем абрикосовому, в котором она выглядела потрясающе, или бледному индиго, будто специально созданному для исполнения «Рамоны». Пока я занимался ее руками и ресницами, она прикрывала глаза, удобно устроившись в кресле, и шептала, как в полусне: «Был у меня любовник, из Квебека, такой же ласковый, как ты, баловал меня, будто ребенка, звали его Даниэль, кто знает, что с ним теперь сталось!..» Вблизи, без грима, все годы Кармен были написаны у нее на лице, а загримируешь ее — и она в лучах прожектора все еще королева. Основное внимание я уделял цвету лица, к примеру убедил ее, что ей следует пользоваться только ярко-розовой пудрой «Герлэн», потому что чересчур светлая аргентинская пудра лишь еще больше подчеркивает ее морщины; в результате она молодела и была мне страшно благодарна, все твердила: «У тебя талант поворачивать время вспять». И духи я тоже заставил ее поменять, убедив, что ей нужен только резкий фиалковый аромат; она вначале упрямилась, мол, такой вульгарный запах годится разве что малолеткам, — не понимала, что в этом контрасте все очарование: увядающая красотка исполняет старые танго, раскрашенная, словно розовая кукла. Именно благодаря этому контрасту ее пение брало за душу, доводило публику до слез.
Закончив с Кармен, я возвращался к своим основным занятиям — бесшумно скользил между столиками: «¿Más carabineros a la plancha, señor?»[59], «¿Le gusta el vino rosado, señorita?»[60] — но все время помнил: Кармен следит за мной взглядом, и когда проворно, едва клиент успеет достать сигарету, щелкал у него перед носом золотой хозяйской зажигалкой, все же успевал на миг задержать пламя возле сердца — это был наш условный сигнал, означавший, что голос у нее сегодня звучит божественно, прямо за сердце берет, и он впрямь начинал звучать увереннее, теплее, взволнованнее. Потрясающая старушка: ее надо было поддержать, без нее «Бикиньо» давно бы прогорел.
В тот вечер, когда Кармен не вышла на сцену, у нас поднялась паника. Бросила она петь, конечно, не по своей воле, так вышло: перед выступлением мы были в ее уборной, Кармен сидела в кресле перед зеркалом, закрыв глаза и откинувшись на спинку, курила свою сигару, а я накладывал грим, и вдруг пудра слиплась, на лбу выступил пот, я потрогал — холодный, «мне плохо», — только и успела прошептать она и поднесла руку к груди. Я взял ее за кисть — пульс не прощупывался — и побежал за директором; Кармен дрожала, словно у нее жар, но на самом деле была холодна как лед. Мы вызвали такси, чтобы отправить ее в больницу, я довел Кармен до черного хода, публика ничего не заметила. «Чао, Кармен, — сказал я, — не волнуйся, все пройдет, завтра я тебя навещу»; в ответ она слабо улыбнулась. Было одиннадцать, публика ужинала, прожектор высвечивал на сцене пустой круг, пианист что-то тихонько наигрывал, заполняя паузу, но вскоре из зала послышался первый, нетерпеливый всплеск аплодисментов — вызывали Кармен. Сеньор Пайва, нервно затягиваясь сигаретой, метался за кулисами и в конце концов распорядился бесплатно подать шампанское, чтобы как-то утихомирить публику. Но этот номер не прошел. Посетители хором начали скандировать: «Кар-мен! Кар-мен!» И тогда уж не знаю, что на меня нашло: повинуясь какой-то неведомой силе, я вдруг кинулся в гримерную, включил свет над зеркалом, выбрал самое что ни на есть вульгарное, облегающее платье с люрексом и разрезом на боку, белые туфли на высоком каблуке, черные вечерние перчатки до локтя, рыжий парик с длинными локонами. На веки положил густым слоем серебристые тени, а губы только слегка обозначил неяркой матовой помадой абрикосового оттенка. В таком виде я вошел в луч прожектора. Посетители забыли о еде, в меня впилось множество глаз, вилки застыли в воздухе; эта публика была мне хорошо знакома, но вот так, лицом к лицу, я с ней еще не встречался; она расположилась полукругом, будто осаждая меня. Я начал с «Caminito verde»[61]. Аккомпаниатор, сообразительный малый, сразу уловил тембр моего голоса и начал очень мягко, на низких тонах подыгрывать, а я подал знак осветителю поставить голубой диск и принялся нашептывать в микрофон слова; потом, чтобы продлить песню, дал аккомпаниатору два раза сыграть интермеццо; зрители не сводили с меня глаз, и я медленно прохаживался по сцене в луче прожектора, время от времени поводил руками, как бы плавая в этой голубизне, поглаживал себя по плечам и чуть-чуть покачивал рыжими кудрями, подражая Рите Хейворт в «Гильде». Публика захлопала, и я твердо решил не дать ей остыть, поэтому, пока аплодисменты не стихли, запел другую песню, затем — опять же без паузы — исполнил аргентинское танго тридцатых годов. И тут меня наградили такими овациями, которые нечасто выпадали даже на долю Кармен. В порыве безумного вдохновения я подошел к пианисту, попросил у него пиджак, надел прямо на платье и, как бы изображая мужчину, с невыразимой грустью запел «О, эти дивные глаза». Я обращался к любимой женщине, а она спешила на мой зов, и под конец, не спеша сняв пиджак, я уже от ее имени шептал в микрофон последнее признание возлюбленному — моей публике; я с обожанием обводил ее глазами, а сам тем временем небрежно отбрасывал ногой пиджак. Не давая рассеяться колдовским чарам, я снова впился губами в микрофон и запел «Acércate más»[62]. В зале творилось что-то неописуемое, мужчины аплодировали стоя, пожилой господин в белом смокинге бросил мне гвоздику, английский офицер, сидевший близко к сцене, подскочив, пытался меня расцеловать. Я сбежал в гримерную и заперся. Меня всего трясло от радостного возбуждения, с трудом переводя дух, я взглянул на себя в зеркало: молода, красива, счастлива, такая все может себе позволить! Я напялил белокурый парик блондинки, перекинул через шею боа из голубых перьев, так что конец его тянулся за мной по полу, как шлейф, и этакой шалуньей выпорхнул на сцену.