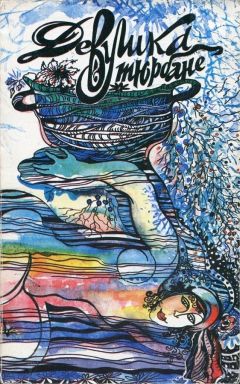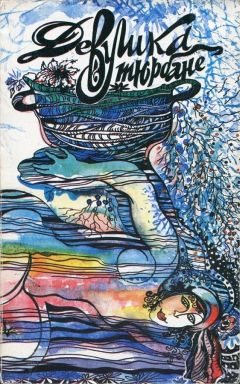Антонио Табукки - Из сборника «Девушка в тюрбане»
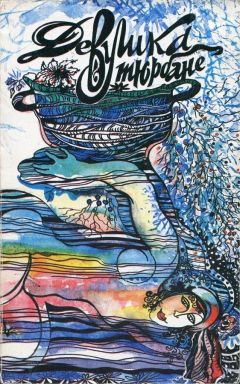
Обзор книги Антонио Табукки - Из сборника «Девушка в тюрбане»
Антонио Табукки
© 1983 Sellerio editore Palermo
© 1985, 1988 Giangiacomo Feltrinelli Editore Milano
Женщина из Порта пим
Перевод С. КАЗЕМ-БЕК
Все вечера подряд я пою, потому что мне за это платят, но ты слышал только pesinhos и sapateiras[1] для проезжих туристов да еще вон для тех американцев, что смеются в углу и скоро уйдут, едва держась на ногах. Настоящие мои песни — четыре, chamaritas[2], да-да, четыре, репертуар у меня невелик, возраст все-таки и курю много, и голос уже не тот — слишком хриплый. Мне приходится напяливать на себя этот старинный balandrau[3] с Азорских островов, американцам ведь нравится все яркое, потом они вернутся в свой Техас и будут рассказывать, как в одном кабаке на затерянном острове видели старика, который в допотопной хламиде пел песни своего народа. Им непременно подавай «арамейскую виолу», потому что только она звучит меланхолически, как шарманка, вот я и пою для них приторные modinhas[4] с одной и той же рифмой, но им, сам видишь, все равно, вон сидят и пьют себе свой джин с тоником. А ты-то чего здесь ищешь, зачем приходишь каждый вечер? Любопытный, все ищешь чего-то, меня вот уже второй раз вином угощаешь, притом заказываешь вино на травах, словно из местных, но ты не наш, только притворяешься, будто говоришь по-нашему, а сам и пьешь мало, и все помалкиваешь, ждешь, пока я заговорю. Писатель, говоришь, ну что ж, наши профессии чем-то схожи. Все книги глупые, правды ни в одной нету, хоть я и прочитал их пропасть за эти тридцать лет — делать-то и нечего, итальянских тоже много попадалось, в переводе, конечно, и что мне больше всего понравилось, так это «Тростник на ветру» некой Деледды[5], читал? Ты еще молод и, видно, до женщин охотник, я заметил, как ты глядел на ту красотку с длинной шеей, весь вечер глаз с нее не сводил, не знаю, может, она твоя, она тоже на тебя поглядывала, не подумай чего, но разбередили вы мне душу, должно, я перебрал нынче. Я всегда в жизни перебирал, хватал через край, а это погибель, но никуда не денешься, коли таким родился.
У нас перед домом была атафона, так называли на этом острове колодец, что вращается по кругу, теперь таких уж нет, ведь я о давних временах веду речь, когда тебя на свете не было. До сих пор слышу, как скрипит та атафона, этот звук с детства засел у меня в памяти, мать посылала меня с кувшином за водой, а я, чтоб легче было крутить, напевал себе колыбельную и, бывало, в самом деле засыпал. Кроме колодца помню низкую беленую ограду, скалистый берег и море внизу. Нас было три брата, я младший. Отец был неторопливый молчун, а глаза у него были ясные-ясные, как вода, его лодка называлась «Мадругада»[6], так мы дома величали мать. Отец был китобоем, как и его отец, но, когда для китов был не сезон, он ходил на мурен, и мы с ним, даже мать. Теперь уже этого нет, а когда я был мальцом, у нас водился такой обычай, без которого и ловлю нельзя было начать. На мурен выходят вечером, как луна прибавится, так вот для приманки пели одну песню без слов: такой, знаешь, напев, сперва тихий, будто ленивый, а потом разрастался, ну точно стон, никогда больше мне не доводилось слышать мелодии, чтобы так душу рвала, казалось, она поднимается из моря, а может, ее поют заблудшие в ночи, старинный этот напев родился вместе с нашим островом, теперь все его позабыли, может, оно и к лучшему, потому что звучал он как страшное заклинание судьбы. Отец выходил на лодке ночью, греб осторожно, стараясь не шуметь, а мы — братья, мать и я — усаживались на утесе и затягивали песню. А бывало, другие молчали, велели, чтобы пел один я: мол, у меня такой жалобный, тягучий и красивый голос, что ни одна мурена не устоит. Не думаю, чтоб я и впрямь пел лучше всех, просто я был моложе, а мурены, по нашим поверьям, любят чистые голоса. Бредни, ясное дело, предрассудки, но так уж сложилось.
Потом мы выросли, и мать умерла. Отец стал еще молчаливей — сядет ночью на обрыве и глядит на море. Теперь мы ходили только на китов, мы, все трое, были рослые, крепкие парни, и отец спокойно доверял нам гарпун, сам-то уж он был не тот, годы брали свое. И вот однажды братья мои ушли из родного дома. Средний подался в Америку и сообщил об этом только в день отъезда, я провожал его в порту, а отец не пошел. А старший переселился на материк, нанялся грузовики водить, он был весельчак и всегда любил моторы, когда к нам пришли полицейские сообщить о том, что он разбился, дома был я один, а отцу после рассказал, за ужином.
Мы остались вдвоем. Промышлять стало труднее, без поденщиков не обойдешься, ведь на китов меньше чем впятером выходить нельзя, отец все твердил, чтоб я женился, потому — что за дом без хозяйки. Но мне было всего двадцать пять и хотелось еще порезвиться, каждое воскресенье я шел в порт и там находил себе новую любовь, в Европе шла война, и на Азорах каждый день бросал якорь чей-нибудь корабль, народ ехал со всего света, и в порту Пим на каких только языках не говорили.
Ее я встретил в порту в одно из воскресений. Она была в белом, с обнаженными плечами и в кружевной шляпе. Словно с портрета сошла, а не с одного из пароходов, битком набитых беженцами на пути в Америку. Я долго смотрел на нее, она тоже взглянула на меня. Странно входит в нас любовь. В меня она вошла двумя морщинками возле ее глаз, и я еще подумал: не так уж и молода. Возможно, подумал я так потому, что юнцам вроде меня любая зрелая женщина кажется старше своих лет. Ей было немногим больше тридцати, но об этом я узнал гораздо позже, когда ее возраст уже ничего для меня не значил. Добрый день, не могу ли я быть вам чем-нибудь полезен. Она кивнула на чемодан у своих ног. Отнеси его в «Боте», сказала она на моем языке. «Боте» — не место для сеньор, заметил я. Я не сеньора, я новая хозяйка.
В следующее воскресенье я снова пошел в город. В те времена рыбаки в «Боте» не заглядывали: я до этого был там всего один раз. Два отдельных кабинета в глубине зала, где играли в карты на деньги, бар с низким потолком и зеркалами в узорных рамах, столики из фигового дерева. Посетители — сплошь иностранцы, все притворялись, будто приехали отдыхать, и каждый скрывал, откуда он родом; целыми днями они шпионили друг за другом, а в перерывах резались в карты. Гнусное заведение! За стойкой стоял коротышка канадец с острыми усиками, звали его Дени, и по-португальски он говорил как уроженец Кабо-Верде, я его знал, потому что он приходил по субботам в порт покупать рыбу: в «Боте» воскресными вечерами можно было поужинать. Это он научил меня потом английскому.
Я хотел бы поговорить с хозяйкой, сказал я. Сеньора будет только после восьми, надменно бросил он мне. Я сел за столик и заказал ужин. Около девяти она вошла, заметила меня среди других посетителей и рассеянно кивнула, потом села за столик в углу рядом с пожилым седоусым сеньором. И только тут я понял, как она хороша, от этакой красоты у меня в голове мутилось, потому и пришел туда, только не сразу осознал это. А теперь вдруг мне все стало ясно, так ясно, что я целый вечер от нее глаз не отрывал и лишь до боли стискивал виски кулаками; когда она вышла, я двинулся следом, на расстоянии. Она шла легко и ни разу не обернулась, видно, ей и в голову не приходило, что кто-то может за ней следить. Так она вышла за городские ворота и стала спускаться к заливу. На другой стороне его, у самого мыса, среди утесов и зарослей тростника стоит каменный дом. Ты его, наверно, приметил, там еще растет одинокая пальма, теперь в том доме никто не живет, рамы подгнили и покосились, не сегодня завтра рухнет крыша, если уже не рухнула, в общем, дикое запустение. А тогда дом был белый с голубыми наличниками и дверью… и жила там она. Когда она затворила дверь, тотчас свет погас. Я сел на утес и стал ждать. Среди ночи в одном из окон зажегся свет, она выглянула… я смотрел на нее не отрываясь. Ночи в порту Пим такие тихие, что даже шепот слышен издалека. Впусти меня, молил я. Но она закрыла ставни и опять погасила свет. Из красноватой дымки нарождалась летняя луна. Я чувствовал, что больше не выдержу, вокруг плескались волны, все было напряжено до предела, и я вдруг вспомнил детство, когда мы ночью с отвесного скалистого берега приманивали мурен; не знаю, что мне взбрело в голову, но я не смог утерпеть и запел. Пел еле слышно и жалобно, приставляя руку ко рту, чтоб направлять звук. Вскоре дверь отворилась, я вошел в темный дом и очутился в ее объятиях. Меня зовут Иеборат, только и сказала она.
Знаешь ли ты, что такое предательство? Настоящее предательство — это когда сгораешь со стыда за себя, хочешь перестать быть самим собой. Именно этого мне хотелось, когда я прощался с отцом, а он следил, как я заворачиваю в клеенку гарпун и вешаю его на гвоздь в кухне, а затем иду к двери, перебросив через плечо виолу, которую он сам подарил мне на двадцатилетие. Я решил сменить профессию, выпалил я, буду петь в таверне порта Пим, в субботу зайду. Но не зашел ни в ту субботу, ни в следующую, и все лгал себе, что уж в будущую-то зайду непременно. Прошла осень, потом зима, я все торчал в таверне. Не только пел, у меня были и другие мелкие обязанности, скажем, угомонить какого-нибудь буйного клиента: Дени по своей комплекции никак в вышибалы не годился. А еще слушал разговоры всех этих типов, что притворялись отдыхающими, когда служишь в кабаке, всякого тянет излить тебе душу, да и ты в долгу не остаешься, сам видишь, как все это просто. А она поджидала меня дома в порту Пим; теперь я уже входил туда без стука. Ты кто, допытывался я, откуда приехала? Давай убежим от этого сброда — кто их знает, то ли они картежники, то ли еще кто, — я хочу всегда быть с тобой. Она смеялась, погоди, говорит, наберись терпения, пока что нам нельзя уехать вместе, ты должен мне верить, большего я сказать не могу. Голая, она подходила к окну, смотрела на месяц и просила: спой свою призывную, только негромко. И пока я пел, говорила: возьми меня, и мы любили друг друга, стоя у окна, а она вглядывалась в ночь, словно ждала чего-то.