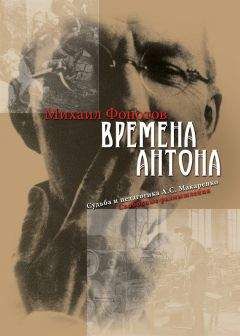Хорхе Семпрун - Нечаев вернулся
Марру попытался продолжить разговор, несмотря на ощутимую враждебность Эли.
— Но, пожалуй, именно в это все и упирается, вы не согласны? То же самое, слово в слово, мог бы написать Ленин, Троцкий, да и кто угодно из нынешних марксистов-ленинистов!
Зильберберг не устоял перед искушением поспорить.
— Только не Маркс! Он в пух и прах разнес «Катехизис»!
Наверно, с таким же торжеством Архимед воскликнул «Эврика!»
Марру кивнул.
— Пусть так, — сказал он, — но дело не в этом. За словами Нечаева о нравственности стоит внутреннее убеждение, что революция есть абсолютное благо… А Маркс понимал, что в истории не все так просто и, прокладывая себе путь, она сплошь и рядом несет отнюдь не благо…
Удивление Эли росло. Как и его тревога.
— Тем не менее, — продолжал Марру, — и у Маркса в его мессианской теории революции и классовой борьбы тоже заложена возможность нравственного релятивизма.
Зильберберг уже забыл, зачем к нему явился Марру. Им владел теперь только азарт спорщика, желание блеснуть, выиграть очко у собеседника.
— А по-вашему, будь революция абсолютным благом, позиция Нечаева была бы оправданной?
Они стояли среди книжных гор. Марру махнул рукой, отметая его вопрос, как докучливую муху.
— Да конечно же нет, Зильберберг! Даже если бы революция и была великим счастьем для человечества, апофеозом освобожденной личности и еще не знаю чем сказочно прекрасным — хотя, как правило, эти сказки обязательно оборачиваются кровью, — все равно позицию Нечаева принять было бы невозможно. Ни при каком раскладе нельзя считать нравственным все, что служит торжеству революции. Во-первых, как это ни банально звучит, цель не оправдывает средства. А главное, нравственные критерии борьбы определяются самой ее сутью, они имманентны конкретному историческому действию. Их нельзя извлечь из трансцендентности, как фокусник извлекает из шляпы кролика. Их надо выявить, осмыслить и руководствоваться ими в самом процессе борьбы. Есть вещи, которых нельзя делать ни при каких обстоятельствах, ни ради чего… Но эти постулаты должны быть обоснованы историческим смыслом борьбы: некоторые действия исключаются, исключаются — и всё!
Зильберберг кивнул.
— Конечно! Вы абсолютно правы. Во всяком случае, в рамках атеистической морали. Но христиане исходят только из трансцендентного… И их мораль невероятно действенна — как в социальном, так и в индивидуальном плане…
Марру бурной жестикуляцией выразил несогласие.
— В ваших книжных залежах наверняка есть Маритен[24]. Перечитайте «Бог и допущение зла»… Вы увидите, что томизм дает трансцендентное обоснование только для «линии добра»… За «линию зла» ответствен человек… Бог не имеет отношения к злу, он лишь допускает его, чтобы человек мог в полной мере проявить свою свободу. Короче, за Освенцим Бог не отвечает… Он тут совершенно ни при чем, ибо зло — чисто человеческое порождение. На первый взгляд это, конечно, может шокировать… Но тут есть над чем подумать…
Марру вдруг умолк и закрыл глаза. Потом подошел к застекленной стене веранды, выходившей в общий сад. Он долго стоял молча, глядя на дом Люсьена Эрра. Наконец снова обернулся к Зильбербергу. Голос его звучал глухо.
— Я говорил, что был здесь в сорок третьем, помните? Мы тогда собрались, чтобы решить, как быть. В нашей подпольной организации состоял один человек — его военная кличка была Мирабо, — из очень бедной семьи, отчаянно смелый, которого мы подозревали в том, что он работает на гестапо. Или служит и нашим и вашим. Некоторые из нас считали, что он достоин смертного приговора, что доказательства его предательства налицо, а риск слишком велик, чтобы позволить себе роскошь быть разборчивым в средствах. В тот день, в доме Люсьена Эрра, мы приняли окончательное решение. Мы договорились оставить его в живых и какое-то время осторожно понаблюдать за ним. Потому что его подозрительное поведение могло быть истолковано и просто как безрассудная храбрость, слепая вера в свою звезду…
Марру глубоко вздохнул и продолжал:
— Кто-то предложил похитить его, поместить в надежное место и допросить… Допросить… Понимаете, что это значит? Это значит — в случае запирательства подвергнуть пытке… Мы дружно отказались. Узнать правду было необходимо, но если бы Мирабо признался в предательстве под пыткой, то правда, добытая таким способом, отравила бы наше сознание… И всю нашу борьбу… Свет этой правды ослепил бы нас настолько, что мы перестали бы видеть смысл нашей борьбы…
Марру снова вздохнул. Эли казалось, что ледяная рука стискивает ему сердце. Он догадывался, что за этим последует.
— Самым непреклонным был Мишель Лорансон. Это он убедил нас не убивать Мирабо… Через несколько недель его арестовало гестапо в квартире на улице Бленвиль… И выдал его Мирабо…
Молчание сгущалось вокруг них, становилось почти осязаемым, душным.
— И вот через тридцать лет, — продолжал Марру, будто с усилием выталкивая из гортани каждое слово, — что вы сделали с его сыном, Даниелем Лорансоном?
Эли стоял бледный как полотно.
Он знал, что этот вопрос неминуемо будет задан, едва услышал имя своего странного гостя. Понимал, что за этим, в сущности, он и пришел.
Но тут дверь неожиданно распахнулась. В комнату стремительно вошла мать Эли, Карола Блюмштейн, возбужденная, наэлектризованная. Молодая сиделка безуспешно пыталась ее удержать.
«…и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и источники вод. Имя сей звезде „полынь“; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли…»
Почему вдруг Карола Блюмштейн начала цитировать Апокалипсис?
Марру уже не мог восстановить ход их сумбурного разговора. Теперь он сидел и покорно слушал про то, как вострубил третий ангел.
Эли хмуро молчал в углу. Он почти ни слова не сказал с тех пор, как его мать вихрем ворвалась в комнату.
Марру ни разу прежде не встречался с Каролой. Двенадцать лет назад, когда он пытался в одиночку расследовать исчезновение Даниеля, он, разумеется, узнал о ее существовании. Он завел тогда целую картотеку, где и на Каролу имелась карточка. С тех пор он помнил, что мать Эли была в Освенциме.
Слушая сейчас, как она декламирует Апокалипсис, он испытывал острое волнение. Потому что не мог не узнать это выражение глаз. Устремленный в одну точку взгляд бывших узников, отрешенный, пустой, помраченный дымом крематорских труб в скорбной долине Бжезинки. Взгляд Мишеля Лорансона на нарах 56-го блока в Бухенвальде. Взгляд молодого заключенного у ворот лагеря — он был испанец, на груди у него в красном матерчатом треугольнике была выведена тушью буква «S», — Марру встретил его возле здания Politische Abteilung далекой весной 1945 года. «Здесь больше никогда не будет пахнуть паленым мясом», — сказал испанец и засмеялся безумным смехом.
Заполучив в лице Марру нового собеседника, Карола наслаждалась возможностью поговорить о том, чем была одержима в последнее время, — о катастрофе в Чернобыле.
— Вы знаете, где находится этот Чернобыль? На Украине, так? А вы заметили, что в двадцатом веке оттуда идут все наши несчастья? Преследования евреев, погромы, резня…
Марру кивал и внимательно слушал. Во всяком случае, делал вид.
— Ай-ай-ай! — причитала она. — А вы знаете, что значит слово «Чернобыль»?
Нет, он не знал. Сожалел, что не знает.
— Это значит «черная трава» или «горькая трава»… Иначе говоря, «полынь»…
Она смотрела на Марру в надежде, что этого будет достаточно и он сразу поймет весь глубокий смысл этого названия. Но Марру явно не понимал.
— «Имя сей звезде „полынь“…» — многозначительно произнесла Карола. — Вы помните, что сказано о звезде «полынь»?
Нет, Марру не помнил. И даже не догадывался, что она имеет в виду.
Как что? Библию, разумеется. Откровение Иоанна Богослова.
Вот тут-то она и начала декламировать стих из Апокалипсиса, который идет за «Видением семи печатей»: «И я видел семь Ангелов, которые стояли перед Богом; и дано им семь труб…»
Марру слушал, потрясенный этим звенящим, срывающимся голосом, который вдруг зазвучал с пророческой торжественностью:
— «Третий Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде „полынь“; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки».
Она победоносно смотрела на Марру.
— Яснее некуда, правда? Чернобыль — это звезда «полынь»… Взорвался реактор на атомной станции, она вспыхнула как факел, и вся вода вокруг оказалась заражена… Но самое страшное еще впереди… Чернобыль возвещает нам войну, которая принесет гибель Израилю… Чернобыльская катастрофа — это знак, понимаете? Ведь атомных электростанций на свете тысячи! Катастрофа может произойти на каждой из них в любую минуту. Но первый взрыв неспроста случился именно в Чернобыле… На этой самой Украине, где евреев преследовали при всех режимах… Я объясняла это Эли. Но он не слушает… Говорит, что это можно толковать как угодно… Предложил мне сходить к раввину. Но я никогда в жизни не ходила к раввину, я слушаю Бога в своем сердце — с тех пор как он снова обрел голос в моем сердце…