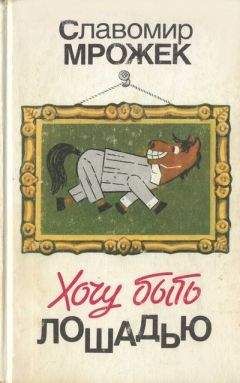Геннадий Баннов - За огнями маяков
— Ну, не буду вам мешать. Прощайтесь, — кивнул обоим, и Леночка ему ответила за двоих, таким же кивком. Олег поднял сжатый кулак, «Рот фронт!» то есть.
И обратились они друг к другу, и говорили что-то важное. Ну, нет, далеко не самое важное: пустяки какие-то, мелочь какую-то…
— Напиши с дороги… В крайнем случае — как приедешь к родителям. Я отвечу тебе, мое письмо еще тебя захватит…
— Хорошо. Только ответь сразу, в этот же день!
— А другое напиши, как поедете на восток, с дороги. Я буду ждать.
Ну, не пустяк ли это? Не мелочь ли?
Да, он понял, он согласен, напишет о впечатлениях, о настроении и прочем. И уж непременно напишет, когда доберутся до места назначения и устроятся.
— Если меня дома не будет — письмо мама перешлет в Москву.
Он покивал, утвердил в памяти. Ну, не пустяки это? Не мелочь?
— Ну, как же, как же? Ведь скоро мы, сейчас вот прямо, расстанемся, и тебя не будет, долго не будет… — Положила ему на плечо руку.
— И тебя не будет, — приблизил он ее к себе, другая ее рука легла ему на другое плечо. — Будем вспоминать друг о друге и писать письма. И ожидать встречи. Которая… состоится обязательно. Через год!
— О Господи, — она вздохнула, — через год!
В дверном проеме появились Гоша и Стас. Сошли с подножки. Вежливо поговорили и посмеялись тоже вежливо — знают, что никому тут, кроме них, невесело. Пожали Вере и Леночке руки. Простились, как хорошо воспитанные, преклонили головы. И поднялись на подножку, вошли обратно в вагон.
Гоша предварительно остановился, оглянулся направо, налево. Сказал: «Закругляйтесь!» — уж без этого он не может, и тоже скрылся. Раздался двойной удар колокола. Проводница велела уезжающим войти в вагон и вынула флажок. В Олеге что-то надорвалось: тоскливо взглянул он на проводницу, пронзительно — на Леночку. По лицу ее побежали слезы, и так ему жаль ее стало, родную, милую!
— Не плачь, Лена. Увидишь, все будет хорошо… — Обнял ее, надолго соединил свои губы с ее солеными губами, отстранясь, посмотрел в заплаканные глаза. И поцеловал еще. И, ласково похлопав по спине, подбодрив будто, оставил одну.
Она закрыла лицо руками: «Одну! Совсем одну!» И открыла опять, стала все видеть. Вот шагнул он на подножку и стал в дверях, рядом с проводницей. Медленно набирая скорость, поезд пошел, Леночка потянулась за вагоном, глядя на него, на уезжающего. Машущего теперь рукой. И, не обращая внимания на прощальные восклицания отбывающих тоже матросов из соседнего вагона, все шла и шла. И рядом с ней, держась за руку, шла ее подруга Вера, и обе они тянулись за вагоном, за поездом, пока не кончилась платформа.
Олег все видел их. Пока вовсе они не уменьшились в размере и не стушевались, растворившись и потерявшись в посторонних предметах. Ну, все, вот все. И нет уже никого. Как будто и не было… Проводница велела пройти в вагон. И закрыла двери. И между прочим посочувствовала Олегу, оставившему такую красавицу. Так и назвала Леночку: «красавица».
Стал у окошка, где толпились его друзья, уступившие ему место, как пострадавшему. Города было совсем не видно: ну, он же весь на горе! Смотрели на тянувшиеся вдоль путей цеха паровозоремонтного завода, где группа проходила практику на токарных и фрезерных станках; проехали переезд со свежевыкрашенными шлагбаумами, миновали огромную, нависшую над железной дорогой гору, на верху которой, на лесной опушке, Олег с Гошей готовились к государственным экзаменам. А по другую сторону поезда, тоже рядом с дорогой, текла, бежала, теперь не видная, река Белая. На той ее стороне — памятный пляж, куда приезжали едва не целой группой купаться. Где, впрочем, у Олега состоялась проба сил с самбистом Анатолием Нестеровым. И с его отцом ли, с товарищем ли — так и не выяснил…
Впереди была Черниковка. В пошивочном ателье там шили им форменные кителя и брюки, а девушкам — платья. Ездили туда на примерку. Скоро будет эта станция. Но Черниковка — это уже не Уфа…
Все четверо толпились возле окошка, обменивались мнениями, о чем-то спорили. А, в общем-то, прощались с великолепной Башкирией, с уральской природой. Прощались, прощались…
18. Начало путешествий за туманами
Когда со станции Новосибирск поезд тронулся и пошел не на запад, как всегда, а на восток, сердце Олега екнуло. Посуровело и лицо Гоши. Касаясь друг друга плечами, стояли у раскрытого окошка, за которым все убегало назад, будто в невозвратное прошлое, — и семья: папа с мамой, сестра, братишка, старшие братья, — и учеба, и спорт. И труд. И милая Леночка…
И город Уфа. Ах, Уфа!..
И заглядывали к ним через окна и в душу прямо разнообразная сибирская природа и деревенская беспросветная нужда — вся как есть жизнь…
Да, шел поезд, подрагивая на рельсовых стыках и выколачивая дробь. Не на запад, как в былые времена, а на восток… Вспоминали теперь уже давно прошедшие времена учебы, встреч, соревнований, дружеских отношений; картины себе рисовали молча, только иногда воспоминания вырывались с комментариями и сдерживаемым смехом. Смеялись, как на прощанье в Уфе встретили Женьку Леконцева, пожелавшего им в дорогу «семь футов под килем» и прочитавшего на прощанье скабрезные стихи собственного сочинения. И из последних встреч в Новосибирске: в училище, откуда были направлены на учебу, встретили своего бывшего мастера Павла Сергеича, у ближайшего киоска угостили его пивом. И обнялись на прощанье. И Олег с Гошей, и Ваня Шамшурин со Стасом — все сходили в кино. На обратной дороге их захватил ливень — никуда не приткнуться, нигде не укрыться, побежали к цветочному павильону. До ниточки вымокли. И расхохотались, ну, совсем мальчишки еще! И простились со Стасом и Ваней, направленными в Алтайский край. А им с Гошей надлежало уже отправляться: ждала их дорога дальняя.
На вокзале нос к носу столкнулись с красавцем Толей Койновым из седьмой группы, плясуном и заядлым картежником. Только что он возвратился из Барнаула, от своего дяди, известного в том городе картежника, прошел у него «практикум» тонкого шулерства. Скоро вместе с прекрасной девушкой Розой Максюковой он отбывает в Хабаровск. В соседнем купе собрались девчонки, окончившие педучилище. Шумят, песни поют и, то и дело, снуют около наших путешественников, проходя и пробегая из одного конца вагона в другой. И, похоже, прибились к ним два добрых молодца с Донбасса, с Горловки будто, едущие на Дальний Восток. Один из них, не шибко уже молодой человек — лет под тридцать ему, отзывающийся на имя дядь Микола, смуглый, горбоносый и черноглазый, с ладными усами — ни дать ни взять Григорий Мелехов. После войны он за что-то был осужден и на востоке отбывал наказание. Там и свил гнездо — женился, есть ребенок. Туда возвращается. Другой, Иннокентий, этот едва постарше Олега с Гошей, но солиден-то! С поставленным начальственным баритоном, правда, рыхловат для молодого человека. Работает где-то в шахтоуправлении и достиг уже какого-то продвижения по службе. Похоже, не женатый, так как заинтересованно посматривает на девчонок, будто выбирает из них себе невесту. Вразнобой они все хохочут. Иногда и поют довольно слаженно. Пристроились к их компании и наши герои. Гошино присутствие на первых порах сдерживало веселье девушек. Казалось, пошевеливая густыми бровями, вот-вот обратится он к ним с вопросом: «А в чем тут идея, товарищи? Над чем это вы все время хохочете?» Но скоро они попривыкли к Гоше, снисходительно и даже с улыбкой слушали, когда он изрекал какую ни есть истину, комментарий ли к чьему-нибудь высказыванию. Так что от внимания к своей персоне он бывает даже зарумянится.
Олег казался (или хотел казаться) равнодушным к девушкам. Участвовал и в разговорах, шутил, смеялся и вызывал смех слушателей, но со всеми был ровен и одинаков. Иногда задумывался о чем-то своем: глаза останавливались на невидимой точке в пространстве, на предметах, на вещах, тогда он не замечал окружающего его общества, и чтобы выйти из этого состояния, ему надо было брать себя в руки — отвлекаться от точки, к которой то и дело приковывались глаза. О чем задумывался? Или о ком? Что на душе у него, что было в прошлом? Кто там был, такой дорогой ему и незабываемый? Иногда забавлял компанию анекдотами или показывал фокусы, каких, слава богу, навидался в общежитии, и сам он тогда смеялся, забывая обо всем на свете. Пока глаза не находили ту самую точку в пространстве. Тогда умолкал и на какое-то время снова отключался от жизни.
Глаза его, однако ж, делались — так был он рожден и устроен — избирательны: из смеющихся и задумчивых, из разных и разнообразных, непохожих одна на другую девчонок, они выбирали одну. Самую, кажется, самую… Как-то, исподволь рассматривая девчонок, натолкнулся он на пронзительные зеленые глаза, которые тут же были отведены от него, заинтересованные кем-то другим. К обладательнице этих глаз присмотрелся: видна собой — и лицом, и сложеньем, и светлыми волосами, вот разве что эти сторожащие глаза… Начни он сказывать какую историю из своего ремесленского быта или запевать сибирскую песню, которых довольно певал его отец за работой, она заглядится, как на какую невидаль. Зовут ее Волей. Не Олей, а Волей — имя какое-то ненормальное. Догадывалась что ли, что чем-то ему не пришлась и все не переставала подстерегать глазами.