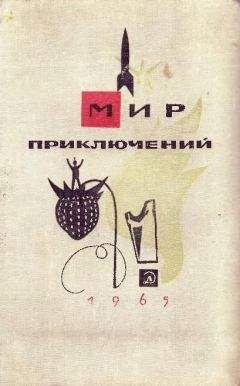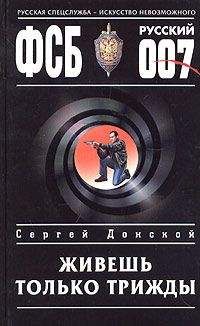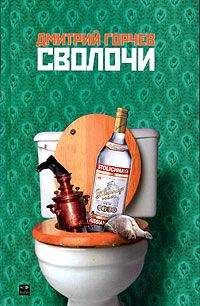Дмитрий Долинин - Здесь, под небом чужим
И тут, быть может, повинуясь давешнему Надиному гипнозу, я отпустил тормоза и стал выпивать. Тогда, возле вагона, Надю я почти не обманул, пил после смерти Алины очень редко и немного. Примерно пару раз в месяц покупал четвертинку и приканчивал ее в одиночестве. А тут словно с цепи сорвался. И Марина эта вилась рядом, подливала, просила снять ее портрет, я соглашался, она висла на мне, прижималась большой грудью, шепотом, щекоча мое ухо губами, рассказывала какие-то студийные байки, до которых мне не было никакого дела, и понимал-то я Марину плохо, потому что быстро захмелел, и еще она хотела, чтоб я снял ее голой. Главным тогда было всколыхнувшееся желание, соединенное с четким и ясным знанием, что к себе я Марину не потащу. Ни одна женщина не должна видеть полосатую блузку, висящую на стене в моей комнате. Ни одна не должна глазеть на развешанные портреты Алины. Ни одна не имеет права задавать по этому поводу идиотские вопросы.
Мы куда-то ехали на попутном «запорожце», оказались в какой-то убогой квартире на окраине города, на стене висела деревяшка с изображением кудрявого Есенина, у которого изо рта по-дурацки свисала трубка, Марина расшвыривала одежду по всей комнате, укладывалась, раскинув ноги и заложив руки за голову, звала меня к себе, я гасил свет, раздевался. Долгое воздержание пошло моему организму на пользу. Я был силен и неутомим, а Марина, обнимая меня, нежно и страстно бормотала одно странное слово: «фуцын». Наконец часа в четыре утра она угомонилась и уснула. Я потихоньку оделся и вышел на улицу. Организм мой радовался освобождению от излишних продуктов желез внутренней секреции и одновременно страдал по поводу принятого внутрь спиртного, а то, что называется душой, Психеей, ощущало себя заслуженно побитым ребенком, то есть полным дерьмом. Шел я к метро мимо мрачных и одинаковых пяти– и девятиэтажных окраинных коробок, вяло обдумывая на ходу, что же это за «фуцын» такой. Через пару лет, когда стали массово выходить и продаваться невозможные при коммунистах книги, я купил словарь блатных выражений, вспомнил про «фуцына», посмотрел и нашел его там. «Фуцын – потерпевший, доносчик». Доносчиком я точно не был, а вот потерпевшим пришлось. Марина стала активно меня преследовать, липнуть, показывать при всех, будто я – ее собственность. Пришлось ее обидеть, грубо обхамить при всей группе, чтобы отвязалась. До сих пор меня мучит совесть. Но романа у нас, слава Богу, не вышло…
Лето прошло, съемки закончились, я сдал работу и подарил Наде несколько фотографий салон-вагона в черно-белом и цветном исполнении.
– У вас получилась отличная реклама. И портреты хороши, – сказала она. – Вами интересовались. Пойдете на картину к Аристархову? Я о вас рассказывала.
– Спасибо, нет, – сказал я и неожиданно для самого себя вдруг заявил: – Буду писать сценарий о Первой мировой.
Надя аж очки сняла. Заморгала.
– А вы умеете писать сценарии?
– Попробую, – самонадеянно ответил я.
– Ну-ну.
Робкая мысль, что можно сделать кино на основе трехсот сорока трех документов, оказавшихся у меня в руках, впервые возникла тогда, когда я увидел, как на нашей съемке бумажные сухие фразы сценария, повинуясь Надиному шепоту, вдруг превращаются во что-то почти подлинное, похожее на настоящую жизнь. А когда Надя сказала, что хотела бы снять фильм о Первой мировой, моя идея стала бурно прорастать. И вот теперь я необдуманно заявил о сценарии вслух, выходит, мне уже и отступать некуда. Как их пишут, эти сценарии, я не знал. Засыпая, видел нечто вроде светящейся булгаковской коробочки из «Театрального романа». Только у меня не театральная коробочка светилась, а экран, на котором всплывали и исчезали мутные и цветные разрозненные картины, жестикулировали какие-то люди в длинных серых шинелях, скакал на коне чубатый, в заломленной фуражке казак Козьма Крючков, и глядела мне прямо в глаза женщина в сером платье сестры милосердия, похожая на Алину. Ты где, будто бы хотел спросить или спрашивал я в начинающемся сне. Ее полураскрытые губы замирали, руки застывали в неоконченном движении, словно она хотела мне ответить, да не могла, потому что ей это было запрещено. И я откуда-то знал, что запрещено, но все равно спрашивал и спрашивал, правда, не открывая рта…
В сентябре мой Дом пионеров все еще не оправился от потопа, и было непонятно, что с ним будет дальше. Нужды я не испытывал, послушавшись долларового совета мудрого Поти, да еще получив некоторую сумму за фотографическую работу. То есть я был совершенно свободен. Однажды спустил с антресолей Алинину пишущую машинку и заправил в нее бумажный лист. С чего начать? В голове – беспорядок и смута. И тут всплыл в памяти один из документов. Кажется, он значился у меня под семьдесят шестым номером. Это было личное письмо, писанное по французски. К сожалению, неоконченное, или, точнее, с потерянным финалом. Вот его перевод.
Документ № 76
«Дорогой мой К.!
Нашу последнюю встречу я никогда не забуду. Я вдруг почувствовала, что такое настоящее счастье. Может быть, оно случается только в предчувствии скорой разлуки? Ну вот, разлука состоялась и теперь я опять наполовину несчастна, хотя то, что мне предстоит, наполняет вторую половину моей души даже некоторым восторгом. И еще – непередаваемое чувство свободы. Никаких переодеваний по десять раз на дню, никаких ритуалов, церемонных книксенов и поцелуев руки, бессмысленных светских бесед с людьми в цветных мундирах, более всего, как мне сейчас кажется, похожих на оловянных солдатиков, с которыми мы по многу часов играли в детстве с обожаемым Д. Я еще напишу тебе про Д. и солдатиков, ибо единственная моя детская любовь – это мой брат. Ах, ты ведь сам знаешь, какой замечательный у меня брат, и ты его тоже любишь. До явления тебя он был моим самым близким и родным человеком. Теперь ты и он для меня дороги равно. Вы оба на боевых позициях, и я боюсь за вас обоих.
Одевшись в форму сестры милосердия, я стала такой, как все, стала равной любому человеку из нашего славного народа, который мужественно и стойко противостоит наглым германцам. Но кое-что мне мешало. Например, то, что тетя заставила поехать со мной госпожу С. Ехали мы в отличном комфортабельном вагоне, обгоняли составы скотских вагонов, набитые солдатами, и я чувствовала какую-то неловкость. И тут же себя уговаривала, что мое положение дает мне право. И т. д. Ты меня поймешь, ведь не раз мы с тобой этот важный вопрос обсуждали. Вещей со мной немного – два небольших чемоданчика с бельем (ах, я нарушаю приличия, тебе нельзя про это знать), резиновая ванна и два таких же тазика для умывания. Едва мы добрались до Эйдткунена и сошли с поезда, как я отправила госпожу С. обратно в Петербург. Я буду служить медицинской сестрой, а что же будет делать при мне эта заботливая госпожа? Если бы и она выучилась на сестру милосердия, как я. А так зачем? Чтобы я испытывала неловкость среди других сестер, выделяясь из их скромных рядов?
В Эйдткунене…»
Никита СелянинПисьмо это было адресовано, судя по упоминанию белья и шутливому сожалению о нарушении приличий, скорее всего, любовнику. Но когда я думал о самом начале моей истории, меня это не интересовало. Пока. Про любовь будет обязательно, но потом. Я уцепился за солдатиков.
Напишу вступление, прикидывал я, напишу сцену, которая введёт зрителя в рассказ не прямым, а, допустим, каким-то условным, символическим путем. Покажу сперва пасторальную детскую игру в солдатики, потом пойдут титры фильма, а позже, через какое-то экранное время, окуну уже повзрослевших героев в реальное кровавое и грязное месиво настоящей войны. Оба куска как бы срифмуют-ся, и, возможно, возникнет нечто вроде, как это там называется, – сравнительной метафоры.
Никогда я сам в солдатики не играл. Как в них играют? Когда меня, маленького мальчика, во время войны (конечно, не Первой, а Второй мировой) таскали в эвакуации с места на место, из Ленинграда в Ессентуки, а оттуда, когда стали наступать немцы, – пешком в Баку, пароходом в Красноводск, и далее – до уральского Кыштыма, со мной путешествовал только один солдатик. Я с ним не играл, только иногда доставал из кармана, ставил на стол или подоконник, смотрел и снова прятал. А если у тебя их штук…? Тут я задумался. Сколько у царских или не царских, но вроде того, детей было солдатиков? Допустим, несколько сотен. Ставим друг против друга одну сотню во французских мундирах, вторую – в русских 1812 года. Строим из картонных кубиков укрепления. Ну а что дальше? Стоят они и стоят.
Пришлось идти в Публичную библиотеку, листать старинные журналы: «Детский музеум», «Дело и потеха», «Друг детей», «Путеводный огонек», «Задушевное слово» и много иных, с такими же трогательными и наивными названиями нравоучительного толка. Правила игры в солдатики, в конце концов, нашлись.
Оказалось, главное – определить деление или мерку. Это масштабная единица передвижения. Допустим, щепочка или спичка. Игроки ходят по очереди. Вот мой ход, и я имею право двинуть вперед пехоту на одно деление. Причем неважно, двигаю я всю армию или одного пехотинца. Коннице можно двинуться на три деления. Два солдатика могут передвинуть пушку на два деления. Следующим моим ходом, после хода противника, может быть выстрел. Ствол пушки – открытая с двух концов трубочка, в нее вкладывается тоже что-то вроде гвоздика или щепочки и щелчком пальца производится выстрел. Пехотинец также стреляет с помощью поднесенной к нему отдельной трубочки. Словом, получается нечто вроде занятий по тактике на «ящике с песком». Только веселей, увлекательней. Если бы нам в университете на военной кафедре, вместо тоскливого ящика, давали бы играть в солдатики, наверное, в армии нашей было бы гораздо больше настоящих офицеров с приличным образованием, чем теперь.