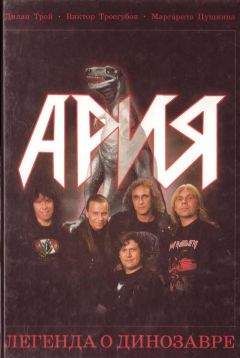Пол Скотт - Жемчужина в короне
Саньяси — это ведь, вы знаете, четвертая стадия, четвертая, и последняя — во всяком случае, на земле. Я имею в виду индуистский свод правил насчет того, как следует человеку прожить свою жизнь. Первая стадия — тренировка, дисциплина и безбрачие, потом человек создает семью и семейный дом. Третья стадия — это похоже на то, что у вас, англичан, называется зрелость, когда человек в расцвете сил, но на самом деле это те годы, когда ваши дети начинают зевать в вашем обществе и считать себя умнее вас, — на третьей стадии вы готовитесь порвать все путы. Ваши дети женаты и замужем, все обеспечены, и вы благословляете внуков и стараетесь никому не мешать. И вот вы достигли четвертой стадии. Пока из вас еще не сыплется песок, вы удаляетесь в лес и пытаетесь наверстать потерянное время — заработать религиозный капитал, хотя этим, конечно, можно бы заниматься и всю жизнь, но в старости оно как-то сподручнее, — раз вы уже отказались от земных благ и мирских соблазнов и пытаетесь забыть о своем «я». Англичан идея саньяси, конечно, приводит в ужас. Как это, мол, можно — по своей воле снять с себя всякую ответственность, а потом жить подачками незнакомых людей. Я всегда им возражаю, что у них тоже есть свои саньяси — все эти несчастные, никому не нужные старики, которых помещают в богадельни. Согласитесь, что индусы в этом смысле практичнее. О религиозной стороне можно не думать. Тут то же, что с коровой. Корова стала священной, а говядина — запретной, чтобы крестьяне не ели ее, когда наступал голод. Если б они съели коров, не было бы ни молока, ни волов, чтобы возить телеги на рынок, и пахать землю, и качать воду, и вертеть жернова. Ну, это-то всем известно. Но и с саньяси та же история. Мы убеждаем стариков уходить из дому, в семье остается одним едоком меньше, а они воображают, что набираются праведности. А чтобы их кормили и не дали им умереть с голоду, убеждаем имущих, что они тоже обретают праведность всякий раз, как подают странствующему саньяси медяк или горстку риса. Как видите, у нас тоже существует социальное обеспечение. Причем с более древних времен, чем у кого бы то ни было. И налогов на него не взимают.
Женщины тоже могут стать саньяси. Как вы думаете, может, это и мне предстоит? Может быть, дом Макгрегора станет моим ашрамом? Последнее время я много бываю одна, как вы можете догадаться, — недаром я так заболталась, совсем вас заговорила. Но думаю я сейчас о мисс Крейн Вы говорите, что ее звали Эдвина. Этого я и не знала. И привыкнуть к этому почему-то трудно. По-моему, ей бы больше подошло быть Милдред. Но для меня-то она всегда была Крейн, мисс Крейн, — этакая длинноногая, длинношеяя птица, что хлопает крыльями, пытаясь уйти от опасности, только слишком медленно, знаете, как иногда нарочно снимают в кино. Один раз, когда я зашла навестить ее после тех беспорядков говорили, что она уже немножко не в себе, — я попробовала спросить у нее, почему она ушла из миссии. Картин у нее в комнате не было, но были два пустых места на стенах, где раньше явно висели картины. Про одну из них я знала, а про другую нет. Я и говорю: «Я вижу, вы уже начали укладываться». Мистера Ганди она убрала еще раньше, это я знала, но мне любопытно было узнать, какая была вторая картина. Портрет мистера Неру? Или основателя миссии? Или «Христос — свет миру»?
Но она только сказала: «Нет, укладываться мне не нужно», и я решила, что добренькие миссионеры разрешили ей остаться жить в ее бунгало. Вы побывайте там. Дом еще стоит. Я его на днях видела — проезжала мимо по дороге в Женскую больницу. Я ведь до сих пор в комитете, до сих пор мозолю им глаза. Они говорят: «Берегись! Старуха прикатила». Я туда являюсь во второй вторник каждого месяца, обычно еду мимо моста Бибигхар, но сейчас там ремонтируют мостовую и рискуешь попасть в пробку, так что в этот раз мы поехали к Мандиргейтскому, и Шафи, дуралей, свернул не там, где надо. Вот и оказалось, что мы едем не мимо старой миссионерской церкви, а мимо дома мисс Крейн. Я этой дорогой уж сколько лет не ездила. Там полно торговцев, что переселились с базара. На веранде мисс Крейн сидел, поджав босые ноги, этакий толстяк с брюшком и слушал транзистор, три козы щипали остатки травы в саду, и какие-то ребята играли в пятнашки. А у нее был такой прелестный сад! Садоводство — вот, кажется, единственное, о чем мы могли говорить без стеснения. Я звала ее посмотреть мой сад, когда совсем окрепнет, но она так и не пришла. А мой сад ни капельки не изменился, точно такой же, как был тогда. Бхалу из года в год сажает все те же цветы на тех же клумбах. Он всегда любил порядок. Дафна рвала ноготки — ставить на обеденный стол, но ей случалось наступить на край клумбы, и буквально через несколько дней после ее приезда Бхалу явился ко мне с просьбой — не велите, мол, молодой мемсахиб помогать мне. Он, видите ли, растит цветы, значит, и срезать их должен сам. Я ему сказала, что молодая мемсахиб любит цветы и хочет помочь и что, хоть она всегда улыбается, жизнь у нее была очень несчастливая, она потеряла всех родных, кроме тети Этель, так что надо быть с ней помягче, может быть, предложить ей заняться папоротниками и вечнозелеными кустами — те растут как хотят, без всяких клумб, а в вазах выглядят наряднее, чем ноготки. Теперь ноготки рвет Парвати. Она-то легкая как пушинка, да и старый Бхалу только рад, что находится время подремать, ему все снится, что он опять в армии и ухаживает за садиком полковника Джеймса-сахиба. Кто был этот полковник Джеймс — понятия не имею, но с годами воображение Бхалу наделяет его все более блистательным ореолом, так что теперь уже можно думать, что он был не иначе как адъютантом самого вице-короля. Когда-то в индийских семьях считалось престижным иметь слугу, который раньше работал у англичанина старого закала. Оно и теперь так считается, но слуги-то эти так состарились и одряхлели, что толку от них никакого, лучше взять кого-нибудь помоложе с базара и обучить. Бхалу говорил про Нелло «чота-сахиб». Так индийцев всегда называли слуги, успевшие поработать у вас, англичан, чтобы отличить их от английских «бурра-сахибов». «Бурра» значит «большой», а «чота» — «маленький». Впрочем, это вам тоже, наверно, известно. Нелло только смеялся, но я думаю, его немножко обижало, что собственный садовник за глаза называет его «чота-сахиб».
Жаль, Дафна не знала Нелло, он ведь умер за несколько лет до того, как она ко мне приехала. У них было одинаковое чувство юмора. В крупной девушке это особенно заметно, правда? Или крупные девушки всегда веселее других? Но ведь и миниатюрные девушки бывают веселые, правда? Я имею в виду англичанок, индийские-то женщины почти все миниатюрные. Возьмите хоть Парвати. А уж если они крупные, то ужасно серьезные, а порой и отчаянные. Держатся так, будто боятся уронить свое достоинство. Если они выше своих мужей, это грозит осложнениями. Я была на дюйм ниже ростом, чем Нелло, и на пять дюймов ниже моего первого мужа, Ранджи.
Я все стараюсь вспомнить, какого роста была мисс Крейн. Выше меня, это точно, но, по английским меркам, вероятно, среднего роста. Четко запомнилась только ее шея, ноги и нос. Чаще всего я видела, как она либо садится на стул, либо садится в постели. Обеды у Конни Уайт, а потом, когда я навещала ее в Английской клинической больнице и у нее дома, когда ее выписали, но она еще была так слаба, что не вставала. В первый раз она приняла меня, лежа на койке на своей веранде. Повидать ее в Английской клинике оказалось не так-то легко. Если заболевал кто-нибудь из моих друзей-англичан, они обычно ложились в городскую лечебницу и занимали отдельные палаты, которые были им не по средствам. Там я всегда могла их навестить, договорившись с доктором Мэйхью. А если кто попадал в клинику, им всегда отводили палату в платном крыле, и тогда мне нужно было только позвонить Иану Макинтошу, начальнику медицинской службы, а он велел кому-нибудь предупредить дежурную сестру. Но мисс Крейн лежала в бесплатном отделении, в палате не то на четыре, не то на пять человек. Иана в тот день не было в городе. Я раньше никогда не бывала в главной регистратуре. Регистраторша — из англо-индийцев, но с абсолютно белой кожей — сказала, что пройти к мисс Крейн нельзя, а когда я стала настаивать, попросила подождать и сделала вид, будто послала кого-то за разрешением к дежурной сестре. На самом-то деле она послала ей предостережение, чтобы не пускала. Это было очень глупо, потому что Дафна добровольно там работала, а жила у меня, но меня-то, индианку, пускать не полагалось, а тем более поощрять мои визиты. Официально такого правила не было, неписаный закон — и все тут. В военное отделение я могла бы пройти, потому что в гарнизоне были офицеры-индийцы. Другими словами, я могла бы навестить поручика Шашардри или его жену, а вот гражданское отделение охранялось свято. Когда болела миссис Менен, жена судьи, она лежала в городской лечебнице, там по настоянию Иана Макинтоша принимали женщин любой национальности, были бы деньги заплатить за палату. Хотя и там было неписаное правило — принимать не всех индийцев, а только определенного профиля. Особых недоразумений это не вызывало — если индиец был достаточно богат, но неподходящего профиля, можно было поручиться, что жена-то его наверняка из тех женщин, что не сунутся ни в одну больницу, кроме Женской.