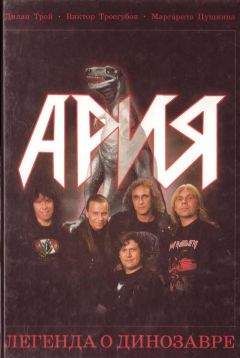Пол Скотт - Жемчужина в короне
Сколько раз я жалела, что не могу пережить это время заново, но зная то, что знаю теперь! Не только из-за Дафны, но и из-за мисс Крейн. Мне кажется, я могла бы удержать мисс Крейн от этой ужасающей формы «саньяси». Одно дело — от всего отказаться, когда понимаешь, сколько всего имел, это еще куда ни шло, но бедная мисс Крейн этого не понимала. Когда я была у нее последний раз — когда заметила следы от картин на стенах, — она спросила: «Леди Чаттерджи, зачем вы ко мне приходите?» А я не нашлась что сказать, ответила только: «Узнать, не нужно ли вам чего-нибудь». Просто недомыслие с моей стороны, вы сами подумайте, неужели такая женщина, как мисс Крейн, призналась бы, что нуждается в помощи? А что я, по-вашему, должна была сказать? Вот если б она сейчас жила в своем бунгало — она, а не этот толстяк, который сидит поджав ноги и слушает музыку из фильмов, — я бы, вероятно, сказала ей: «Прихожу, потому что ни вам, ни мне нельзя отчаиваться, а вы, сдается мне, к атому близки».
Дайте-ка вспомнить. Пожалуй, я все-таки навестила ее три раза, а не четыре. Первый раз — в больнице, потом когда она еще лежала, но уже дома, когда я застала ее на веранде и этот ее старый слуга маячил поблизости, все выглядывал из двери, проверял, как бы кто-нибудь ее не потревожил, а в третий раз вскоре после того, как она ушла с работы, это всех тогда удивило. После предыдущего визита я еще подумала, что надо немного переждать, а потом кто-то мне рассказал, что она уже опять приглашала своих солдат на чаепитие, и я решила: вот теперь самое время, теперь мы можем поближе познакомиться. Но пошла не сразу, очень была занята, а только когда услышала, в связи с ее уходом, что она, как видно, немножко не в себе. Когда я явилась, слуга был на веранде, это, конечно, было в порядке вещей, но мне-то стало ясно, что он ее охраняет. Он сказал, что мисс Крейн очень занята и никого принять не может, и я уже хотела уйти, но она крикнула из комнат. «Кто там?» Он вошел в дом, потом опять вышел и сказал, что я могу к ней пройти. Она не встала, не предложила мне сесть, но я все-таки села, и тут-то она спросила: «Леди Чаттерджи, зачем вы ко мне приходите?» Я растерялась, а потом и сморозила эту глупость: «Узнать, не нужно ли вам чего-нибудь». Вы очень добры, сказала она, но мне ничего не нужно. Я сказала, что слышала, что она ушла с работы. Она только кивнула. Я оглядела комнату, ну знаете, как бывает, когда знаешь, что из этой комнаты должны вот-вот уехать. И тут заметила эти пустые места на стенах, где на одном раньше висел Ганди, а на другом я не знала кто. И сказала, что она, наверно, начала укладываться. А она говорит. «Нет, укладываться мне не нужно». А когда я попробовала выяснить, почему не нужно, она улыбнулась, но не мне, а как бы про себя, и я решила — видно, она и правда не в своем уме. Потому и не стала дальше допытываться, не спросила: «Значит, добренькие миссионеры подарили вам этот дом?» Не спросила, потому что это было маловероятно, и я боялась, что ее ответ только подтвердит, что она повредилась в уме, а перед такой возможностью я чувствовала себя бессильной. На том и успокоилась — укладываться ей не нужно, и весь сказ. Бедная мисс Крейн! Мне бы не надо было отступаться, надо было спросить, почему. Впрочем, правду она мне едва ли ответила бы. Потом-то я с ужасом сообразила, что, может быть, только в ту минуту, пока мы разговаривали, ей самой-то стало ясно, почему ей не нужно укладываться. Эта ее улыбка… А она переменила тему, спросила про Дафну: «Как поживает мисс Мэннерс?» И таким тоном спросила, как справляются о близком человеке, точно они с Дафной заодно, а так, вероятно, и было. Юного Кумара она не знала, но, если б знала, скорее всего, спросила бы тем же тоном: «Как поживает мисс Мэннерс?», а потом добавила бы: «Я слышала, как поступили с мистером Кумаром, неужели это правда?»
* * *Неизменно, изо дня в день, Парвати обедает в семейном кругу, хоть и достаточно узком, — иначе говоря, вдвоем с леди Чаттерджи. Когда нет гостей, взору представляется такая картина: в одном конце длинного полированного обеденного стола, где близко друг к другу поставлены два прибора, сидят они, старая женщина и молоденькая девушка, и разговаривают по-английски, ибо английский — до сих пор язык образованного индийского общества, как некогда французский был языком русского дворянства.
Прислуживает за столом совсем молодой лакей — в те дни, когда здесь жила мисс Мэннерс, он мог быть разве что мальчиком на кухне, да и того не было. Он — недавнее приобретение. Выписан откуда-то с юга, приходится родственником Бхалу, старому садовнику. Леди Чаттерджи посмеивается, рассказывая, что хотя Рам Дас, которого она зовет Раму, попал в дом по рекомендации Бхалу, он почти не общается со стариком, поскольку тот по своему положению настолько ниже его. Он даже отказывается признавать их родство. Бывает, что слуги ссорятся у своего жилища за домом, ссорятся так громко, что на веранде слышно. Повар презирает этих двоих. Сам он некогда работал у одной махарани. Есть еще подметальщица, Сушилла. Леди Чаттерджи смотрит сквозь пальцы на то, что с ней спит шофер-мусульманин, развеселый красавец Шафи. Найти слуг в наше время нелегко, и платить им с каждым годом приходится все больше. Некоторые комнаты в доме Макгрегора стоят закрытые.
Когда бамбуковые шторы опущены, в доме темно и прохладно даже в полдень. Потолки очень высокие. В таких комнатах мыслям человека грозит опасность, как канарейке, вырвавшейся из клетки: они взлетают кругами, все выше и выше, бьются крыльями в такой темени, в таких закоулках, куда рука человека не добиралась, наверно, с тех самых пор, как Макгрегор возвел этот дом на старом фундаменте. По вечерам не хватает никаких ламп, чтобы осветить дальние верхние углы, а уж человек не дотянется туда, даже если станет на плечи другому. Впечатлений лучше набираться на уровне глаз, не то шея заболит от напряжения, как заболит душа от вторжения минувших лет в настоящее. И уж во всяком случае, в этих комнатах нижнего этажа есть некая успокоительная конкретность, ведь настоящее оседает в нижних слоях, как утренний туман в лощинах. Лишь поднимаясь по лестнице, начинаешь ощущать, что возносишься в прошлое, и потом это ощущение уже не покидает тебя, сколько бы раз ты ни пересчитывал знакомые ступени. Спальни как-никак более надежные хранилища для интимных переживаний своих хозяев, чем парадные комнаты внизу.
Захватив ключ из какого-то тайника — кто и как здесь ведает хозяйством, в это гостя не посвящают, — леди Чаттерджи поднимается по широкой, не покрытой ковром полированной лестнице, что, изгибаясь, ведет из холла, мощенного черно-белыми плитками, вверх, в лабиринт площадок и коридоров, и отпирает красного дерева дверь с бронзовой ручкой в комнату, где когда-то жила мисс Мэннерс, она и теперь называет ее комнатой Дафны. Воздух здесь затхлый, нежилой, как и в музее покойного сэра Нелло, расположенном, кстати сказать, как раз под нею, а из окон, когда шторы подняты, открывается вид на сад и дальше, в просветах между пышными невысокими деревьями, — на равнины, окружающие Майапур, за которыми в дымке на горизонте угадываются горы. Милях в полутора высится шпиль церкви святой Марии — она все еще здесь и все так же неуместна, как любая архитектура, будь то английская или индийская, в этом странно незаконченном ландшафте, где вороний грай звучит монотонно, как неумолчный крик созданий, еще не родившихся, но уже снедаемых желаниями, которые люди впоследствии назовут голодом.
В письменном столе лежат два письма, которые мисс Мэннерс написала своей тетке леди Мэннерс, а та позднее передала их Лили Чаттерджи — не хотела, вероятно, держать у себя как ненужные напоминания, и эти письма, возможно, выдают тот же голод, те же смутные желания, неуместные и несвязные. Писала она их (если только не ночью, когда и вороны спят, пусть урывками, нетерпеливо дожидаясь утра) под тот же аккомпанемент, под который их читают сейчас, через столько лет. И на фоне этого неумолчного однообразного шума они кажутся до странности мертвыми, до удивления невнятными. Они не воскрешают образа писавшей; так же, впрочем, как и фотография мисс Мэннерс, украшенная витиевато-каллиграфической подписью некоего Субхаса Чанда, когда-то снимавшего тех жителей города, что хотели подарить родным и друзьям вещественное доказательство того, как благотворно повлияло на них пребывание в Майапуре. Субхас Чанд, по словам леди Чаттерджи, арендовал чуланчик в магазине аптекаря, доктора Гулаба Сингха. Там у него снимался и Кланси — анфас, грудь вперед, в чистенькой защитной форме, со своим нескладным приятелем Барретом, на фоне (опять же неуместном) бархатных драпировок и папоротника (в бронзовой вазе на массивной тумбе, увитой плющом, пусть невидимым, но для впечатлительного глаза безусловно присутствующим).
Снимки Кланси, каким-то образом уцелевшие и тоже неуместные, как бумажные сюрпризы из рождественских хлопушек, хранятся среди прочего невостребованного имущества мисс Крейн в миссионерском центре в Калькутте — рассыпающиеся в прах свидетельства не только прожитой ею жизни, но и долголетней христианской честности, и безразличия дальней родни, потомков тех бедных родственников, что явились на похороны ее отца в надежде чем-нибудь поживиться, а потом скрылись и забыли о ней, чтобы она, не дай бог, не покусилась на их тощие кошельки, если окажется, что на похоронах она только для виду отказывалась от помощи и участия. Тот, кто уже видел в Калькутте снимки Кланси и запомнил технику и подпись Субхаса Чанда и матовую бумагу сепия, на которой он печатал портреты (малого кабинетного формата), тот сразу испытывает чувство узнавания, когда портрет мисс Мэннерс в рамке из накладного серебра впервые на его глазах берут с туалетного столика, перед которым она, бывало, расчесывала свои вьющиеся, оттенка сепии, стриженые волосы.