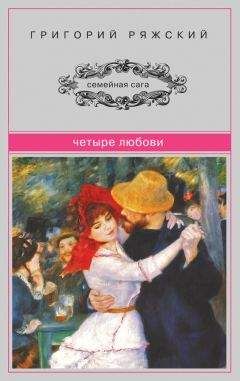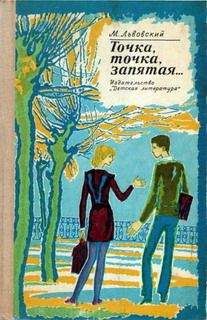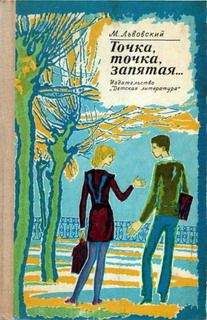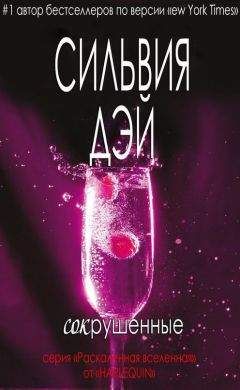Григорий Ряжский - Дивертисмент братьев Лунио
Так вот, оставалось лишь надеяться, что папины вещи оставлены были ими на последнее. Так я предполагал, зная, как дорожили заказчики его работой. И лучшие камни, что добывали, оправлять именно к нему несли, не куда-то. Только б не умерли, не дай бог, и не пропали бы бесследно все эти люди.
Обменный набор, как правило, определял я сам. Впрочем, если настаивали и начинали торговаться, почуяв, что есть некий резерв, я никогда не вступал в полемику, находил приемлемый вариант, нормальный, уважительный, и обмен происходил. Сначала я приходил, смотрел само изделие, убеждался, что папино, по его личному клейму на внутренней стороне каждой работы в виде птичьей лапки. Затем, если просили, предъявлял паспорт в паре со свидетельством о папиной смерти, чтобы не думали, что бандит. Затем делал предложение.
Я уже тогда примерно представлял себе количество живых адресов, куда можно было пробовать сунуться. Предварительный обзвон позволял прикинуть. Исходя из этого, раскидал мысленно остаток еды. Хватало с избытком, но я решил и придержать что-то. Не знал ничего про войну эту, а правду нам не говорили, врали. Непонятно было, сколько она ещё продлится и кто одержит верх. Несмотря на скорый конец блокады. Волынцев сказал тогда папе, что задавит нас немец, завоюет. И как было не верить, раз он с войной всё угадал. Даже по сроку. Не говоря уж про Европу саму.
Короче говоря, действовал я по системе, аккуратно и с уважением. Но и с оглядкой. Были хозяева, которым я сам хотел побольше дать, их помечал отдельно. Решил, когда список исчерпаю, этим обязательно добавлю, если останется. Жалко было, просто до ужаса как жалко. У кого дети истощённые, но выжившие, а кто совсем уже доходил до черты, вместе с любимой собакой, но съесть её так и не смог, дождался её смерти и закопал в снег, из последних сил. А потом один из них в окно увидал, как её оттуда голодные люди выкапывали и тут же на куски рвали, мёртвую, пока не одеревенела от мороза. А сил идти труп её спасать уже не оставалось. Так и простоял у окна, держась за штору.
Много историй, в общем, написать бы про это, если только честно, как было на самом деле. А честно не дадут, такие они. Папа сказал бы, наверное, что если б Ленин не умер, то и войны этой не допустил бы; он-то уж с немцами умел договариваться как никто. Ленин идеи свои оставил, но Сталин идеи эти предал. Вот так.
А конечный результат моих обменов был следующий: в копилке оказалось тридцать восемь ювелирных работ, клеймённых птичьей лапкой. Кольца, броши, три ожерелья, четыре браслета, серьги, в комплектах и без, перстни. И даже одна корона, для невесты, запрошенная неким нэпманом, обладателем чрезвычайного состояния – папа смеялся тогда, но не отказал. Даже интересно было ему, что на невестиной голове в итоге получится. А на короне той было всё: весь каменный, драгоценный Урал, изумрудный и прочий, отобранный местными добытчиками специально для нэпмана, а уж затем отсортированный папой и обработанный им же. Плюс традиционные голландцы, примовые, без малейшего изъяна. По золоту всё в основном, червонному и меньшей частью уже по платине, тяжеленная получилась штуковина, хотя и ажурная вся, из узоров тонкой выделки соткана была и с разными сложными завитками вроде виноградных листьев с ягодками и другой фруктовой экзотики. Не было в этом папе равных тогда в фантазийности его и качестве работы. Невеста, несмотря на изрядный вес короны, не завалилась, выдержала, сам же нэпман счастлив был несказанно. И папа на свадьбе той гулял, в «Астории», с другими нэпманами, и те тоже захотели короны такие иметь для своих нэпманш-королев, но было поздно уже, времена поменялись. И многих потом из них, кто не сбежал вовремя, Сталин убил, как и Волынцева, но только уже по другой статье.
А корона осталась. И домой вернулась, к младшему Гиршбауму, к Григорию, ко мне. За неё мама невесты той, которая одна только и осталась живая, взяла, как ни чудно, меньше других владельцев. Или не понимала, что за корона эта на деле, из чего она. Или же просто умом тронулась, от голода и остальных несчастий. Она корону эту вынесла и на стол положила. А я сумку распахнул и мёда засахаренного банку вытащил. Литровую. И тоже на стол. И тушёнки вдогонку, тушёнки. Молча. Когда за макаронами полез, сморю, шатать её стало, хотя ещё не полная старуха. Макароны вынул, сколько зацепилось, а другой рукой муку извлекал, одну пачку за другой. На пол. А потом вместе всё на стол – бух! Она смотрела неотрывно на всё это и тут сползать на пол начала – голодный обморок.
В общем, пока не привёл её в чувство, не ушёл. А она так и не поверила до последней секунды, что это всё теперь её. За какую-то глупую дочкину корону, которую та и надела-то всего один раз, больше не довелось невеститься. И дочки самой нет давно, вывозили когда по льду, по ладожскому, разбомбило их, и её, и деток. И не осталось следа никакого даже, ни кусочка драгоценной кровной плоти, всё теперь на дне под ладожской водой, вся их общая могила. А мужа её, нэпмана, зятя, на фронте убило, призван был ещё до того, до начала блокады и не сумел призыва избежать, вот как бывает, даже миллионщиков подпольных и тех на войну забирают, ничего не спасло от погибели, никакие посулы его. Значит, сказала женщина, и корона эта проклята.
Произнесла и отвернулась. Но я её забрал, корону: слова – словами, а для полноты коллекции было надо. Потом уже, хоть и проклята, но корона эта, можно сказать, спасла меня, дело в жизни моей важное сделала.
А вскоре открылись школы. С Кировского я ушёл – сказали, всё. Можно теперь всем учиться, пацаны. Идите по школам своим, узнавайте, какие там дела. И благодарность, бумагу такую, выдали. А ещё сказали, что потом, когда всё закончится, к награде представят, вроде к медали за героический труд в войну, или в тылу, или в блокаду, или как-то ещё, не помню. Я её так и не получил, жизнь меня после этого совсем в другую воронку утянула.
Но учиться я тогда так и не пошёл, ни в свою школу, ни в другую. И никто толком не мог знать, где я, что со мной и что имеется у меня в квартире, из старого и из нового. А пошёл – засветился бы. Те, кому надо, сразу всполошились бы насчёт неоформленного опекунства. Через районо их или гороно, не знаю. Как же, квартира на Фонтанке, в центре, да не коммунальная и просторная к тому же, с видом на реку! А это значит, пришли бы условия жизни уточнять. И скорей рано, чем поздно. А заодно бы обнаружили склад, нормально? Мне же к тому моменту до совершеннолетия оставалось меньше года. И у меня была цель...»
Глава 9
Про нас с Нямой, если вы не забыли, врачи узнали довольно поздно. Ну, что нас двое в Дюкином животе. Всё и так было крохотное у неё, да к тому же делённое на два, так что рассмотреть или прощупать состав внутренности совсем было невозможно. Отец наш, Иван, которого ни Гирш, ни Дюка не держали в курсе беременных дел, пока мы с братом, зрея, набирали свой мушиный вес, просто продолжал своё привычное дело внутри привычной жизни, к которой удачно приспособился и с которой даже не помышлял расставаться. Запас семейной прочности был слишком велик. Дюка с присущей ей мудростью продолжала незаметно для мужа править ладьёй, а он, отбросив промежуточные сомнения, практически забыл о грядущей неопределённости, целиком уйдя в свои любимые упаковки. Почему-то уверил себя теперь, что будет у них с Дюкой такой пацан, как и сам он: здоровый, сильный и талантливый. Гений, короче. Или не гений, но по-любому в дело сгодится. А про другое, что беспокоило поначалу, забыл. Устал помнить и забросил это, выпустил из памяти. Списал, как мешающий нормальной упаковке лишний шов.
Больше остальных беспокоился Гирш. Он-то знал, что в бугае домашнем рано или поздно может без объявления войны проснуться глупый и дурной зверь, какого придётся усмирять или отлучать от дома совсем. Так уж молекулы сложены у них, у «этих», таким порядком.
Пока Дюка ходила в консультацию, ждал. В связи с редким и, вероятней всего, сложным случаем её перевели под наблюдение сотрудников кафедры акушерства и гинекологии местного мединститута. Они больше про это знали: следили за наукой, изучали диагнозы и книжки читали про разные типы аномалий и уродств.
Они и определили, по ультразвуку вроде, что в животе сидит не один, а двое. Какого пола, было не ясно, слишком невыраженные признаки из-за малоразмерности плодов. Но зато надёжно установили, что оба не вырастут, родятся «нанистами», без вариантов. Это в случае, если вообще родятся. Или – родится, хотя бы один из будущих карликов. Я или Няма. Об этом и сказали будущей маме. На полусроке примерно.
Дюка, само собой, к деду. Всё как есть разложила. Двойня, оба карлики. Сама ничего, держалась. Гирш ей на это и сказал только, что не дёргайся, мол, подымем. Больше обмусоливать им было не нужно, обоим. Ивана же в разговорах же своих, не уславливаясь, оба обходили. Ну, незачем тому покамест лишнее знать про волнительное. И чувствовали оба, тоже избыточно про это не говоря, что лучше пусть идёт всё, как идёт, а там видно будет – чего зря пылить.