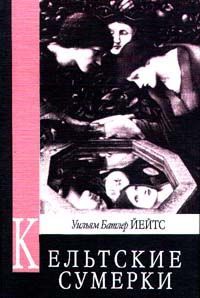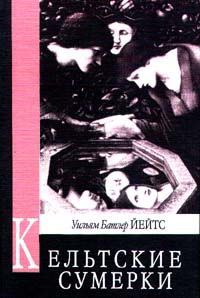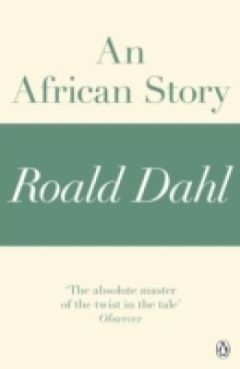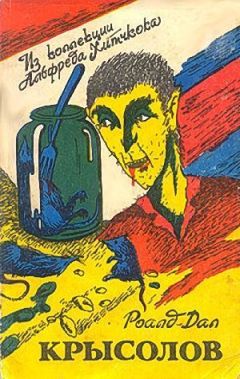Роальд Даль - Ночная гостья
— Если ты и впредь намерена пользоваться какими-нибудь приспособлениями, то, ради бога, научись как следует вводить их. Нет ничего хуже, когда их устанавливают спустя рукава. Диафрагму нужно размещать прямо против шейки.
— Но у меня ничего нет.
— Ничего? Что-то, однако, мне все равно мешает.
Не только комната, но, казалось, весь мир куда-то медленно от нее поплыл.
— Меня тошнит, — сказала она.
— Что?
— Меня тошнит.
— Не говори глупости, Анна.
— Конрад, уйди, пожалуйста. Уйди сейчас же.
— О чем ты говоришь?
— Уйди от меня, Конрад!
— Но это же смешно, Анна. О’кей, извини, что я об этом заговорил. Забудем об этом.
— Уходи! — закричала она. — Уходи! Уходи! Уходи!
Она попыталась столкнуть его с себя, но он всей своей огромной тяжестью давил на нее.
— Успокойся, — сказал он. — Возьми себя в руки. Нельзя же вот так вдруг посреди всего передумать. И ради бога, не вздумай расплакаться.
— Оставь меня, Конрад, умоляю тебя.
Он, похоже, навалился на нее всем, что у него было, — руками и локтями, плечами и пальцами, бедрами и коленями, лодыжками и ступнями. Он навалился на нее, точно жаба. Он и впрямь был огромной жабой, которая навалилась на нее, крепко держит и не хочет отпускать. Она однажды видела, как жаба совокуплялась с лягушкой на камне возле ручья; жаба была точно так же омерзительна, сидела неподвижно, а в желтых глазах ее мерцал злобный огонек. Она прижимала лягушку двумя мощными передними лапами и не отпускала ее…
— Ну-ка перестань сопротивляться, Анна. Ты ведешь себя как истеричный ребенок. Да что происходит?
— Ты делаешь мне больно! — вскричала она.
— Я делаю тебе больно?
— Мне ужасно больно!
Она сказала это только затем, чтобы он отпустил ее.
— Знаешь, почему тебе больно? — спросил он.
— Конрад! Прошу тебя!
— Погоди-ка минутку, Анна. Дай я тебе объясню…
— Нет! — воскликнула она. — Хватит объяснений!
— Дорогая моя…
— Нет! — Она отчаянно сопротивлялась, пытаясь высвободиться, но он продолжал прижимать ее.
— Тебе больно потому, — говорил он, — что твой организм не вырабатывает жидкость. Слизистая оболочка, по правде, совсем сухая…
— Прекрати!
— Название этому — старческая атрофия влагалища. Это приходит с возрастом, Анна. Потому это и называется старческой атрофией. С этим ничего не поделаешь…
В этот момент она начала кричать. Крики были не очень громкие, но это были крики, ужасные, мучительные крики; прислушавшись к ним, Конрад вдруг сделал лишь одно-единственное изящное движение и скатился с нее, оттолкнув ее обеими руками. Он оттолкнул ее с такой силой, что она упала на пол.
Она медленно поднялась на ноги и шатающейся походкой направилась в ванную, говоря сквозь слезы:
— Эд!.. Эд!.. Эд!.. — И в голосе ее звучала мольба.
Дверь за ней закрылась.
Конрад лежал неподвижно, прислушиваясь к звукам, доносившимся из-за дверей. Поначалу он слышал только ее всхлипывания, однако спустя несколько секунд он услышал, как с резким металлическим звуком открылась дверца шкафчика. Он мгновенно вскочил с кровати и необычайно быстро начал одеваться. Его одежда, так аккуратно сложенная, была под рукой, и у него заняло не больше двух минут, чтобы все на себя надеть. Одевшись, он метнулся к зеркалу и стер носовым платком губную помаду с лица. Достав из кармана расческу, причесал свои красивые черные волосы. Потом обошел вокруг кровати, чтобы убедиться, не забыл ли он чего, и осторожно, как человек, выходящий на цыпочках из комнаты, где спит ребенок, выскользнул в коридор, тихо прикрыв за собой дверь.
«Сука»
Пока я подготовил к печати только одну запись из дневников дяди Освальда. Речь в ней шла, как кто-то из вас, вероятно, помнит, о физической близости моего дяди и прокаженной сирийки в Синайской пустыне. Со времени этой публикации прошло шесть лет, и до сих пор никто не объявился с претензиями. Поэтому я смело могу выпустить в свет вторую запись из этого любопытного сочинения. Мой адвокат, впрочем, не рекомендует мне этого делать. Он утверждает, что некоторые затронутые в нем лица еще живы и легко узнаваемы. Он говорит, что меня будут жестоко преследовать. Что ж, пусть преследуют. Я горжусь своим дядей. Он знал, как нужно прожить жизнь. В предисловии к первой записи я говорил, что «Мемуары» Казановы в сравнении с дневниками дяди Освальда читаются как церковноприходский журнал, а сам знаменитый любовник рядом с моим дядей кажется едва ли не импотентом. Я по-прежнему стою на этом и, дайте мне только время, докажу свою правоту всему миру. Итак, вот этот небольшой отрывок из двадцать третьего тома, публикуемый точно в том виде, в каком его записал дядя Освальд:
«Париж.
Среда.
Завтрак в десять. Я попробовал мед. Его доставили вчера в старинной сахарнице севрского фарфора того прелестного канареечного оттенка, который известен под названием jonquille.[20] “От Сюзи, — говорилось в записке, — и спасибо тебе”. Приятно, когда тебя ценят. А мед этот непростой. У Сюзи Жолибуа, помимо всего прочего, была еще и небольшая пасека к югу от Касабланки, и она безумно любила пчел. Ее ульи стояли посреди плантации cannabis indica,[21] и пчелы брали нектар исключительно из этого источника. Они пребывали, эти пчелы, в состоянии постоянной эйфории и не были расположены трудиться. Меда поэтому было очень мало. Я намазал им третий кусочек хлебца. Вещество было почти черным и имело острый привкус. Зазвонил телефон. Я поднес трубку к уху и подождал. Я никогда не заговариваю первым, когда мне звонят. Не я же, в конце концов, звоню. Звонят-то ведь мне.
— Освальд! Вы меня слышите?
Я узнал этот голос.
— Да, Анри, — откликнулся я. — Доброе утро.
— Послушайте! — Звонивший говорил быстро и взволнованно, — Кажется, у меня получилось! Я почти уверен, что получилось! Простите, не могу отдышаться, но я только что провел фантастический эксперимент. Теперь все в порядке. Замечательно! Вы можете ко мне приехать?
— Да, — сказал я, — Еду.
Я положил трубку и налил еще одну чашку кофе. Неужели Анри наконец добился своего? Если это так, тогда я должен быть рядом с ним, чтобы разделить его восторг.
Здесь я должен отвлечься и рассказать вам, как я познакомился с Анри Биотом. Года три назад я приехал в Прованс, чтобы провести летний уик-энд с дамой, которая привлекала меня лишь тем, что у нее была необычайно мощная мышца в том месте, где у других женщин вообще нет мышц. Спустя час после приезда, когда я бродил в одиночестве по лужайке близ речки, ко мне подошел смуглый человечек небольшого роста. На тыльной стороне его руки росли черные волоски. Он слегка поклонился мне и произнес:
— Анри Биот. Я здесь тоже в гостях.
— Освальд Корнелиус, — представился я.
Анри Биот был мохнатый, как коза. Его подбородок и щеки были покрыты черной щетиной, а из ноздрей торчали густые пучки волос.
— Позволите присоединиться к вам? — спросил он, зашагав рядом со мной и сразу же заговорив.
И таким он оказался говоруном! Воодушевился, точно француз. При ходьбе он нервно подпрыгивал, а пальцы его так и летали, словно он хотел разбросать их по всему свету. Слова выскакивали из него подобно фейерверку, притом с громадной скоростью. Он рассказал, что он бельгиец, химик, а работает в Париже. Как химика его интересовало все, что связано с органами обоняния. Изучению обоняния он посвятил всю свою жизнь.
— То есть запахам? — переспросил я.
— Да-да! — воскликнул он. — Именно! Я специалист но запахам. Больше меня ни один человек в мире не знает о запахах!
— Хороших запахах или плохих? — спросил я, стараясь успокоить его.
— Хороших запахах, прекрасных запахах, восхитительных запахах! — проговорил он. — Каких угодно! Я могу создать любой запах, какой пожелаете!
Далее он мне поведал, что работает в одном из самых известных домов моды в качестве специалиста по духам. Вот этот нос, сказал он, положив волосатый палец на кончик своего длинного волосатого носа, наверное, ничем не отличается от любого другого носа, не правда ли? Я хотел было указать ему, что из его ноздрей торчит больше волос, чем в поле растет пшеницы, и непонятно, почему бы ему не попросить парикмахера выстричь их, но вместо этого вежливо согласился, что ничего необычного не вижу.
— Вот-вот, — сказал он. — Однако на самом деле это обонятельный орган необыкновенной чувствительности. Втянув пару раз воздух, он может обнаружить наличие единственной капли мускуса в галлоне гераниевого масла.
— Удивительно, — произнес я.
— На Елисейских Полях, — продолжал он, — а это широкая улица, мой нос может определить, какими именно духами душилась женщина, идущая по другой стороне.