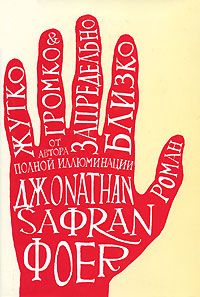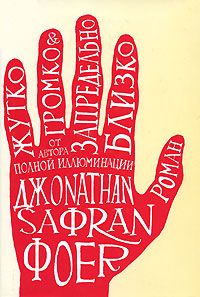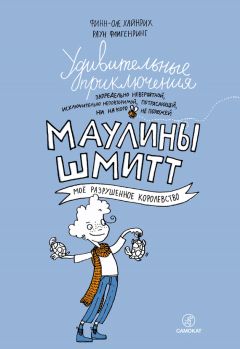Борис Рыжий - В кварталах дальних и печальных
«…Кто нас посмеет обвинить…»
…Кто нас посмеет обвинить
в печали нашей, дорогая?
Ну что ж, что выпало прожить,
войны и голода не зная?
А разве нужен только мрак,
чтоб сделать горькою улыбку?
Ведь скрипка плачет просто так,
а мы с тобой жалеем скрипку.
Две минуты до Нового года
…Мальчик ждет возле елочки чуда —
две минуты до полночи целых.
Уберите ж конфеты и блюдо
желтых сладких и розовых спелых.
Не солдатиков в яркой раскраске,
не машинку, не ключик к машинке —
мальчик ждет возле елочки сказки.
Погляжу за окошко невольно —
мне б во мрак ускользнуть и остаться.
Мне сегодня за мальчика больно,
я готов вместе с ним разрыдаться.
Но не стану, воспитанный строго,
я ведь тоже виновен немножко —
вместо чуда, в отсутствии Бога,
рад вложить безделушку в ладошку.
С любовью
…Над северной Летой
стоят рыбаки…
прощай, мое лето,
друзья и враги.
На черном причале —
как те господа —
я, полон печали,
гляжу в никуда.
Прощайте, обиды
и счастье всерьез.
До царства Аида.
До высохших слез.
До желтого моря.
До синего дна.
До краха. До горя.
По небу луна,
как теннисный шарик,
летит в облака.
Унылый кораблик
отчалил… Пока.
Новая Голландия
По чернильной глади я
проведу ладошкой.
Новая Голландия,
как тебя немножко.
Ну к гребёной матери
прозябать в отчизне —
я на белом катере
уплыву по жизни.
Ветер как от веера —
чем дыханье, тише.
«Уличка» Вермеера —
облака и крыши —
в золоченой раме.
Краха что-то вроде, не
умереть на Родине,
в милом Амстердаме.
«Носик гоголевский твой…»
Носик гоголевский твой,
Жанна, ручки, Жанна, ножки…
В нашем скверике листвой
все засыпаны дорожки —
я брожу по ним один,
ведь тебя со мною нету.
Так дотянем до седин,
Жанна, Жанночка, Жанетта —
говорю почти как Пруст,
только не пишу романы,
потому что мир мой пуст
без тебя, мой ангел Жанна.
Тяжела моя печаль,
ты ж прелестна и желанна…
Жанна, Жанна, как мне жаль,
как мне больно, Жанна, Жанна.
«Под огромною звездою…»
Под огромною звездою
сердце — под Рождество
с каждой тварью земною
ощущает родство.
С этим официантом,
что спешить показать
перстенек с бриллиантом,
не спеша подливать.
С этой дамой у стойки,
от которой готов
унаследовать стойкий
горький привкус духов.
И блуждая по скверам
с пузырем коньяка,
с этим милицанером
из чужого стиха.
«С десяток проглядев, наверное…»
С десяток проглядев, наверное,
снов вновь и вновь перенеся
такое мрачное и скверное, —
но, лучше, видимо, нельзя.
Одна улыбочка беспечная,
с ней и дотянем до седин.
Ты жив, мой мальчик? Ну конечно, я
живу, как Бог, совсем один.
Живу, разламывая целое.
Глаза открою поутру
зимой — зима такая белая,
в такую зиму я умру.
«Вот и мучаюсь в догадках…»
«Перед вами торт «Букет»
Словно солнца закат — розовый
…Прекрасен как сок берёзовый»
Надпись на торте
Вот и мучаюсь в догадках,
отломив себе кусок, —
кто Вы, кто Вы, автор сладких,
безупречных нежных строк?
Впрочем, что я, что такого —
в мире холод и война.
Ах, далёк я от Крылова,
и мораль мне не нужна.
Я бездарно, торопливо
объясняю в двух словах —
мы погибнем не от взрыва
и осколков в животах.
В этот век дремучий, страшный
открывать ли Вам секрет? —
мы умрём от строчки Вашей:
«Перед вами торт “Букет”…»
«Магом, наверное, не-человеком…»
Магом, наверное, не-человеком,
черным, весь в поисках страшной
поживы,
помню, сто раз обошел перед снегом
улицы эти пустые, чужие.
И, одурев от бесхозной любови,
скуки безумной, что связана с нею,
с нежностью дикой из капельки крови
взял да и вырастил девочку-фею.
…Как по утрам ты вставала с постельки,
в капельки света ресницы макая,
видела только минутные стрелки…
Сколько я жизни и смерти узнаю,
что мне ступили на сердце —
от ножек —
и каблучками стучат торопливо.
Самый поганый на свете художник
пусть нас напишет — все будет красиво.
«В одной гостиничке столичной…»
В одной гостиничке столичной,
завесив шторами окно,
я сам с собою, как обычно,
глотал дешевое вино.
…Всезнайки со всего Союза,
которым по хую печаль
и наша греческая муза,
приехали на фестиваль.
Тот фестиваль стихов и пенья
и разных безобразных пьес
был приурочен к Дню рождения
поэта Пушкина А.С.
Но поэтесс, быть может, лица
и, может быть, фигуры их
меня заставили закрыться
в шикарных номерах моих…
И было мне темно и грустно,
мне было скучно и светло, —
стихи, и вообще искусство,
я ненавидел всем назло.
Ко мне порою заходили,
но каждый был вполне кретин.
Что делать, Пушкина убили,
прелестниц нету, пью один.
«Долго-долго за нос водит…»
Долго-долго за нос водит,
а потом само собой
неожиданно приходит
и становится судьбой.
Неожиданно взрослеем:
в пику модникам пустым
исключительно хореем
или ямбом говорим.
Не лелеем, гоним скуку
и с надменной простотой
превращаем в бытовуху
музы лепет золотой.
Без причины не терзаем
почву белого листа,
Бродскому не подражаем —
это важная черта.
А не завтра — послезавтра
мы освоим твердый шаг,
грозный шаг ихтиозавра
в смерть, в историю, во мрак.
«…Когда примерзают к окурку…»
…Когда примерзают к окурку
знакомые с речью уста,
хочу быть похожим на урку
под пристальным взором мента.
Ни Ада, ни Рая, ни Бога —
чтоб нас прибирали к рукам,
нам так хорошо, одиноко,
так жарко и холодно нам.
В аллее вечернего парка
ты гневно сняла сапожок,
чтоб вытряхнуть снег, — как подарка,
я ждал нашей встречи, дружок.
Недоуменье
…С какою щедростью могу я поквитаться
с тем, кто мне выделил из прочих благ своих
от дикой нежности ночами просыпаться,
искать их, призрачных, не обретая их.
Игра нелепая, она без всяких правил,
снежинка легкая, далекая звезда,
письмо написано, и я его отправил
куда неведомо, неведомо куда.
Покуда ненависть сменяется любовью,
живем, скрипим еще, но вот она пришла —
как одиночество с надломленною бровью
в окошко бросится, не тронет и стекла.
А как не бросится, а как забьется в угол,
комочек маленький, трепещущий комок,
я под кровать его, я в шкаф его засунул,
он снова выскочил, дрожит и смотрит вбок.
С кем попрощаемся, кого сочтем своими?
Вот звезды, сгусточки покоя и огня…
И та, неяркая, уже имеет имя —
его не знаю я и выдумал не я.
Одной поэтессе