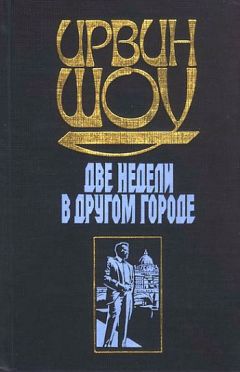Ирвин Шоу - Вечер в Византии
«Англия всегда будет Англией», — подумал Крейг, принимаясь за салат по-ниццки.
Вошел Пабло Пикассо с компанией из пяти человек, и хозяйка ресторана, красивая женщина, засуетилась, усаживая их за столик у противоположной стены. Крейг посмотрел на него, с восхищением подумал о том, какую бычью энергию излучает его невысокая плотная фигура, большая лысая голова, темные глаза, мягкие и жесткие одновременно, и тут же отвел взгляд. Пикассо, конечно, наслаждается своей славой, но имеет же он право съесть суп без того, чтобы за каждым его движением следил какой-то немолодой, американец, чья претензия на внимание художника обусловлена только тем, что у него в доме, который, в сущности, уже и не его дом, висит литография с изображением голубя.
Англичане лишь мельком, без любопытства взглянули на Пикассо и его компанию, когда те входили в ресторан, и опять занялись своими бифштексами и шампанским.
Позже хозяйка подошла к столику Крейга и тихо спросила:
— Вы ведь знаете, кто это, да?
— Конечно.
— А вот они… — Она язвительно улыбнулась, слегка кивнув головой на своих английских клиентов, — Они не знают.
— Искусство вечно, признание — быстротечно, — Comment?[14] — озадаченно посмотрела на него хозяйка, — Американская шутка, — пояснил Крейг. Когда он закончил ужин, хозяйка подала ему к кофе коньяку. За счет ресторана. Если бы англичане узнали Пикассо, то ему пришлось бы платить за этот коньяк самому.
Выходя из ресторана, Крейг посмотрел на Пикассо, их глаза встретились. Он подумал: «Каким увидел меня этот старик? Как абстракцию, угловатый, безобразный продукт американской системы? Убийцу, склонившегося над умерщвленным азиатским крестьянином и подсчитывающего трупы? Скорбного, бесприютного клоуна на печальном чужом карнавале? Одинокое человеческое существо, с трудом передвигающееся по пустому холсту?» Он с грустью подумал об условностях, которым подчинено его поведение. Как хорошо было бы сейчас подойти к этому старику и сказать: «Вы сделали мою жизнь богаче».
Выйдя из ресторана, он пересек улицу и пошел по набережной, где у причалов стояли яхты, покачиваясь на тихой черной воде. «Почему вы не в море?» — мысленно спросил он.
Уже почти дойдя до поворота гавани, он увидел при свете фонарей двигавшуюся ему навстречу знакомую фигуру. Это был Йен Уодли, он шел, опустив голову, развинченной, усталой походкой. В последнюю секунду Уодли заметил его, встрепенулся, и на лице его появилась улыбка. Он располнел и, как видно, с трудом втискивался в свой давно не глаженный костюм. Ворот рубашки он расстегнул, чтобы не сдавливать толстую дряблую шею; наполовину развязанный галстук сбился набок и свисал на измятую рубашку. И постричься ему тоже не мешало бы — густые нечесаные волосы торчали в разные стороны, открывая высокий выпуклый лоб. Он был похож на пророка-отшельника.
— Вот с кем я хотел повидаться, — громко сказал Уодли. — Мой друг — вундеркинд. — Уодли познакомился с Крейгом, когда тому только что исполнилось тридцать лет. В эту фразу он вкладывал обидный смысл, и Крейг так именно ее и воспринял.
— Привет, Йен. — Крейг пожал потную ладонь Уодли.
— Я же записку тебе оставил, — сказал Уодли тоном упрека.
— Я собирался звонить тебе завтра.
— Кто знает, где я буду завтра. — Голос у Уодли немного сел. Он был под хмельком. Как обычно. Пить он стал с тех пор, как начались неудачи с его книгами. Или, наоборот, неудачи начались с тех пор, как он стал пить. Причина или следствие — все переплелось.
— Разве ты здесь не на весь период фестиваля? — спросил Крейг.
— Я нигде ни на какой период. — Уодли был пьянее, чем Крейгу вначале показалось. — Что ты делаешь?
— Когда?
— Сейчас.
— Гуляю.
— Один? — Уодли недоверчиво осмотрелся вокруг, словно подозревая, что на темной набережной среди перевернутых плоскодонок и рыбачьих снастей Крейг прячет какую-нибудь сомнительную личность.
— Один, — подтвердил Крейг.
— Одинокий продюсер. Ну так я погуляю с тобой. Пойдем, как два ветерана, товарища по отступлению с бульвара Заходящего Солнца.
— Ты всегда изъясняешься титрами. Йен? — спросил Крейг, раздраженный тем, что этот писатель считает его товарищем по несчастью.
— Что делать, кино — искусство сегодняшнего дня, -сказал Уодли. — Печатное слово мертво. Почитай любого канадского философа. Отведи меня в ближайший бар, вундеркинд.
— Я уже достаточно выпил сегодня.
— Счастливчик. Что ж, пройдусь с тобой и так. Твоя-то дорогая вернее моей.
Они пошли рядом. Уодли держался подчеркнуто прямо, шагал пружинящей походкой. Его некогда красивое, открытое, худое лицо теперь заплыло жиром. Это было лицо алкоголика, сокрушающегося от жалости к самому себе.
— Расскажи мне, вундеркинд, что ты делаешь в этом нужнике, — сказал он.
— Да вот, решил посмотреть несколько фильмов, — ответил Крейг.
— А я в Лондоне живу. Ты это знал? — Он спросил резким тоном, явно намекая, что Крейг потерял всякий интерес к судьбе своего бывшего приятеля.
— Да, — сказал Крейг. — Ну, что Лондон?
— Город Шекспира и Марло, королевы Елизаветы и Диккенса, Твигги и Йена Уодли. Еще один нужник. Вообще-то я приехал написать статью о фестивале для журнала английских гомиков. Никакой гарантии, они оплачивают мне только гостиницу. Если возьмут что-нибудь — подкинут пару фунтов. Хотят украсить свою обложку волшебным именем Йена Уодли. Когда увидят статью, то их, наверно, стошнит. Все, что я здесь видел, — дерьмо. Так и напишу. Вот уж начнут возмущаться! Редактор отдела кино и театра у них вообще полуграмотный, поэтому он убежден, что кино — это божественное творение наших дней. Думает, что Годар ежегодно накручивает по четыре новых Сикстинских капеллы. Господи, да он и антониониевский «Крупным планом» считает шедевром! Ты сам-то что думаешь обо всей этой ерунде, что здесь показывают?
— Есть фильмы хорошие, есть и плохие, — ответил Крейг. — Думаю, что до конца фестиваля штук шесть хороших наберется.
— Шесть! — фыркнул Уодли. — Когда составишь список, пришли мне. Я упомяну их в своей статье. Что хочу, то и пишу. «Великий в прошлом деятель кино назвал шесть лучших фильмов».
— Шел бы лучше домой, Йен. Ты меня раздражаешь.
— Извини. — В голосе Уодли прозвучало искреннее раскаяние. — Разучился я вести себя, как люди. Да и все у меня скверно. А в гостиницу я не хочу. Ничто там меня не ждет, кроме сборища блох и недописанной рукописи книги, которую я, наверно, так и не кончу. Я зол, я это знаю, но зачем изливать свою желчь на старых друзей? Прости меня. Простишь, а? — В голосе Уодли слышалась мольба.