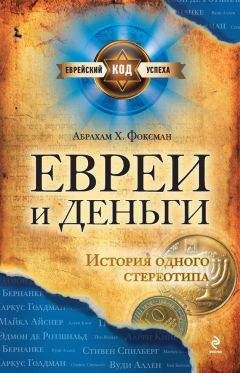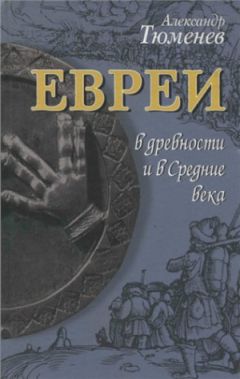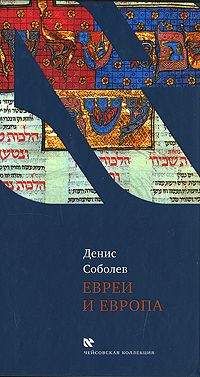Даниэль Пайснер - В темноте
Моего отца и его товарищей обрадовали эти слова, потому что они не могли понять, кто это: эсэсовцы, гестаповцы или простые солдаты вермахта. Они терялись в догадках, не арестованы ли они уже, не хотят ли эти люди просто выявить их сообщников, а потом расстрелять… Или, может, эти люди, подобно им самим, оказались в канализации незаконно. По воспоминаниям моего отца, это были очень страшные мгновения.
Мужчина назвался работником городской канализации и сказал, что его зовут Леопольдом Сохой. Он представил своих коллег, Стефека Вроблевского и Ежи Ковалова. Ковалов был бригадиром и, по словам Леопольда, лучше всех во Львове знал все трубы и тоннели. Конечно, сначала нужно многое обсудить, но, если удастся договориться, они подумают, как помочь отцу и его семье.
Договорив, Соха протиснулся через узкий, выкопанный столовыми ложками лаз и выбрался в подвал. Увидев в дырке пола его шапочку, а следом за ней и ее обладателя, мама инстинктивно прижала нас к себе. Это движение разбудило меня, но я знала, что мне нельзя произносить ни звука, и молчала. Мама, наверно, была охвачена ужасом. А я, кажется, в тот момент чувствовала не столько страх, сколько удивление. Я взглянула на этого человека, увидела его прекрасные, добрые глаза, и поняла, что его бояться не стоит. Я только подумала: кто бы это мог быть?
Соха заметил маму и улыбнулся. Позднее он рассказал, что решение помогать нам он принял именно в этот миг – когда увидел маму, прижимавшую нас с Павлом к себе, словно курица, защищающая своих цыплят. Kania z piskletami. С тех пор он стал называть нас только так. Тогда и родился смертельно опасный союз, благодаря которому Леопольд Соха спасет не только наши жизни, но и свою душу.
Глава 4
Побег
30 мая 1943 года оберштурмфюрер СС Йозеф Гжимек устроил свое последнее церемониальное действо. Он организовал в бывшем спортзале концерт, на который было приказано явиться всем дожившим до сего момента евреям «Ю-Лага».
Каким же чудовищным абсурдом было загонять растоптанных, истерзанных страхом и пытками, убитых горем и заведомо обреченных людей на праздничный концерт. Тем не менее, рассказывал отец, немцы прикатили в зал большой старинный граммофон, рядом с ним стоял Гжимек. Все в его облике свидетельствовало о бесконечной самовлюбленности: начищенные до зловещего блеска ботинки, аккуратно уложенные волосы, идеально отглаженная и подогнанная по фигуре форма. Один из его холуев ставил пластинки с популярными польскими шлягерами 1930-х годов, под которые должны были танцевать узники. Как ни странно, многие танцевали! Может, они боялись навлечь на себя гнев безумного коменданта, может, и впрямь думали, что им есть что праздновать, может, надеялись, что танцами они заставят Гжимека отнестись к ним более благосклонно… А может, танцевали, чтобы просто потанцевать.
Мой папа не мог взять в толк, к чему этот концерт. Возможно, Гжимек задумал все это, чтобы унять страхи узников, отвлечь их от того, что произойдет потом. Или он и впрямь решил проявить доброту и подарить приговоренным к смерти несколько часов музыки? Или это был его последний шанс продемонстрировать недочеловекам-евреям свое величие и превосходство? Кто знает…
Нас с Павлом, конечно, там не было: дети в гетто уже были ликвидированы, и, попавшись на глаза немцам, мы обрекли бы себя на верную смерть. Не пошла туда и мама. Отец зашел туда ненадолго, чтобы показаться всем на глаза, а потом потихоньку сбежал в подвал к Вайссу продолжать копать тоннель.
Если не считать музыки, в гетто царила тишина. Звуки граммофона доносились до нас и через тонкие деревянные стенки барака, и через единственное окно нашей комнаты. Музыка была слышна даже отцу, работавшему в душной подвальной каморке. Я узнала одну польку, и ее веселая мелодия в ту ночь показалась мне очень страшной. С того момента прошло уже почти 65 лет, но, слыша эту песенку, я и теперь вспоминаю тот странный бал в спортзале. Это еще одно доказательство мощной связи между нашими чувствами и воспоминаниями: стоит мне закрыть глаза, и в моем сознании возникает Гжимек – аплодирующий несчастным танцорам с самодовольной улыбкой на устах…
Я знала, что этот бал означает только одно: немцы собираются сделать что-то ужасное. С нами… Все это время родители изо всех сил старались оградить нас, детей, от творящегося вокруг кошмара, и им это удавалось. Они хотели, чтобы мы как можно дольше держались за свое детство, как можно дольше не знали страха. Поэтому я представляла себе общую картину довольно фрагментарно. Но происходящее теперь было выше моего понимания. Праздничная музыка, злой, безумный человек, заставляющий людей веселиться… Означать это все могло только одно: нас ждет большая беда. Я просто знала это.
Мы не говорили об этом в нашей комнатушке, мама попыталась уложить нас пораньше, наверно, потому что ее обуревали те же мрачные мысли, и я помню, как боролась со сном, пока звуки польки просачивались в нашу комнату. Но быстро уснуть было невозможно. У нас не было кроватей. Не было даже матрасов. Я сидела на голом полу рядом с мамой. Она обнимала одной рукой спящего Павла, а я с другой стороны пыталась как-то примоститься. До сих пор я спала, как говорится, вполглаза, но в эту ночь сомкнуть глаз даже наполовину мне не удалось.
Папа уже несколько раз встречался с Леопольдом Сохой, поляком, который скоро станет нашим ангелом-хранителем. Он, по предварительной договоренности, четыре или пять раз вылезал из тоннеля в потайную комнатку в подвале, чтобы обсудить с заговорщиками подробности побега. Иногда Соха приходил один, иногда в компании Стефека Вроблевского. В подвале их всегда ждали мой папа, Вайсс и, возможно, Берестыцкий. Были там и другие мужчины, но я их тогда не знала. Выбираясь из канализации, Соха сразу же спрашивал, как поживает курица и два ее цыпленка, т. е. наша мама и мы, дети. Он начинал этим вопросом каждую встречу, и это, по словам папы, очень раздражало Вайсса. Тому не нравилось, что центром внимания в результате становится мой папа, а не его группа.
В основном во время совещаний говорил Соха. Остальные воздерживались от вопросов, опасаясь, что Соха поймет сложность задуманного и решит отказаться от помощи. Но я сразу почувствовала, что Соха нас не бросит. С самого начала я видела, что он на такое не способен. Соха мне очень нравился, и я с нетерпением ждала его визитов. Да и Павел тоже. Пока говорили другие, Соха брал Павла на руки и играл с ним в какие-то игры. Он сказал, что у него есть дочка Стефця, на два года старше меня. Соха говорил, что любит детей, и приносил нам то кусочек хлеба, то что-нибудь сладкое. Он знал, как много это для нас значит. Мне нравилось смотреть, как Соха сажает себе на колени Павла. Меня радовало его внимание. Я влюбилась в его солнечную улыбку. У него были изумительно красивые белые зубы, и, когда он улыбался, мне казалось, что подвал озаряется светом.