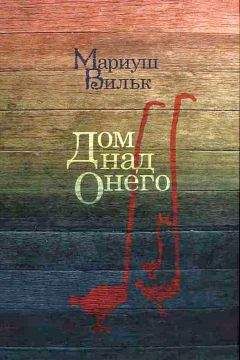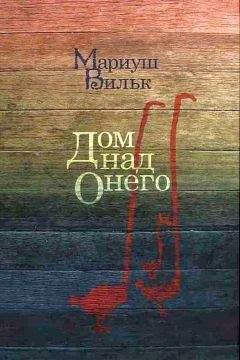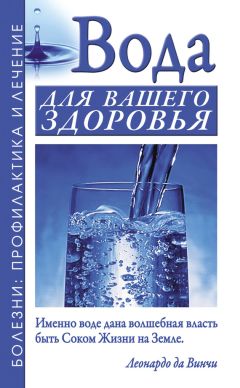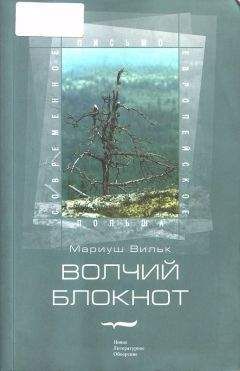Миа Коуту - Божьи яды и чертовы снадобья. Неизлечимые судьбы поселка Мгла
Голос Мунды не застает португальца врасплох. То, что она здесь, только подтверждает его подозрения. Мулатка сидит на камне рядом с железным крестом. Подойдя, Сидониу видит, что на самом деле это старый якорь. Тут, наверное, могила Деолинды, — думает португалец. — Бартоломеу, стало быть, соорудил на ней распятие из якоря.
Португалец садится рядом с Мундой и слышит, как за кладбищем неторопливо плещет река. На дне долины она растекается в широкую заводь. Это место называют «пуп воды». Никто из жителей Мглы не похоронил бы своих родных во влажной земле, так близко от речного берега. Это кладбище может быть только кладбищем иностранцев, мертвецов, помешавшихся оттого, что не могут найти дорогу домой.
— Это могила моего прадедушки Германа.
— А это могила Деолинды? — спрашивает Сидониу, указывая на ржавый якорь.
— Нет, это будущая могила Бартоломеу.
— Где же похоронена Деолинда?
— Я ведь говорила вам: Деолинда не в земле. Она — тень.
— Скажите, какая могила — ее?
В ответ — мельтешение слов: человек, которого мы любим, похоронен везде. Можно сказать, он никогда не опускается на землю. Мунда замолкает. Тишина вновь разливается океаном между чужаком и мулаткой. Врач пришел проститься, но не находит слов. Положение спасает Мунда:
— У меня не хватает сердца для прощания. И нет слов, чтобы сказать, как я вам благодарна.
— Я ничего особенного не сделал.
— Вы вернули мне Деолинду.
Вдруг пошатнувшись, врач опирается на руку Мунды. Его ладонь замирает на ее талии.
— Вы смотрели на меня с вожделением, доктор Сидониу. Вы возродили во мне женщину через столько лет.
В последние недели она вдруг заметила, что снова красит ногти, мажет губы помадой, воскрешает зеркала, меняя перед ними наряды.
— Бартоломеу заперся в комнате, а я была заперта внутри себя.
Она произносит это бесцветным тоном: похоже, речь уже о прошлом. Давность событий измеряется нашим желанием забыть о них. И она знает, что украшения на ее теле и свет в душе — всего лишь хрупкие воспоминания.
— Я вам рассказывала, как изображала любовниц собственного мужа?
— Почему вы об этом вспомнили?
— Потому что с вами у меня случилось что-то вроде этого.
Вот что произошло: притворяясь Деолиндой, сочиняя любовные письма будущему зятю, дона Мунда так слилась с образом, что у нее у самой, к стыду ее, закружилась голова.
— Я хочу вас, Сидониу.
Португалец молчит, затаив дыхание.
— Вы дали мне волшебное снадобье: я снова стала мечтать.
— О ком вы мечтаете?
— Теперь уже — сама о себе.
Вот-вот стемнеет. Смолкают стрекозы, принимают эстафету лягушки. Первая сова вслепую штрихует сумеречное небо. Португалец признается:
— Завидую сове: она ночью все видит.
— Я не хочу видеть ночью, — отвечает она. — Я хочу видеть ночь.
Она улыбается смущенно, как будто прося прощения: «Я хочу видеть ночь», как в песне поется…
— В какой песне?
— Так, в одной. Вы ее не знаете.
Мулатка тихонько напевает какой-то мотив. Потом привстает, разглаживает ладонями измятое платье.
— Я не мечтала о близости с вами. Мне бы хватило того, чтобы вы смотрели на меня ночью и видели, как я раздеваюсь. Как в песне: в ливне лунного света… раздета…
Сидониу водит носком ботинка по песку. Слова женщины падают к его ногам, разверзая перед ним бездонные пропасти. Мунда прижимается к португальцу и подносит к его губам палец.
— Не надо ничего говорить, доктор. Только обещайте мне одну вещь.
Он поднимает голову, но так и не может понять, которая из женщин мерещится ему за этим голосом:
— Если мой муж завтра утром не проснется, если он уснет навеки, обещайте дождаться меня.
Ему почудилось, будто она добавила: «Вы ведь дождетесь, мой гвардеец?» Почудилось. Но кто знает? Ведь все всегда начинается с ошибки. И заканчивается обманом.
— Уважайму мне многое рассказал.
— Да уж я думаю.
— Много всего печального.
— Да, врать можно и печально.
— Не знаю. Я ему поверил.
— Вы должны забыть. Забыть все, о чем вам рассказывали.
— Забыть? Почему?
— Потому что все это вранье. Земля наша врет, чтобы выжить.
Мунда собирает белые цветы, растущие между могил. Протягивает целую горсть лепестков португальцу.
— Знаете, как называется этот цветок?
— Нет.
— Теперь вы уже никогда не забудете. Он называется «Поцелуй мулатки».
Мало, чтобы португалец прикоснулся к цветку и понюхал его. Мунда хочет, чтобы он сделал, как она: чтобы разжевал несколько лепестков и почувствовал их сладковатый вкус.
— Это лекарство от разлук и печалей. От неизлечимых печалей, — говорит Мунда.
Ее тонкие пальцы кладут белые венчики между губ португальца. Врач принимает это мирское причастие с закрытыми глазами.
Этой ночью Сидониу Роза засыпает крепким сном среди могил со стершимися именами. Он не подчиняется священному запрету на обычный сон в том месте, где сон должен быть вечным. Возможно поэтому, засыпая, он слышит голоса, говорящие: «На этом кладбище не просто похоронены европейцы, на нем похоронена вся Европа». И, возможно, поэтому за ночь Сидониу пролетает насквозь всю территорию сна, как будто царство сна — единственная граница, отделяющая его от мертвых.
Сон иностранца — такой реальный, такой яркий, что он сам не знает, спит ли или бредит наяву. Он зовет Мунду. Нет ответа. Сидониу чувствует, будто плывет и струится. Может, опьянел от разжеванных цветов? Мучимый страшными предчувствиями, он торопится покинуть кладбище. Туман такой густой, что ему приходится ногами нащупывать тропинку, ведущую к дороге. Если бы кто-нибудь увидел его сейчас, решил бы, что он — очередной малохолик.
Он слышит, как у остановки тормозит автобус, и чувствует, что кто-то медленно выходит из него. Удаляющийся рокот мотора постепенно затихает. Потом смутный силуэт обретает очертания и с налету натыкается на португальца. Порыв ветра разгоняет туман, и Сидониу Роза видит перед собой до крайности истощенную женщину в сером платье, почти волочащемся по земле. Врач замечает, что женщина беременна, а в тощей руке у нее картонный чемодан. Она поднимает глаза и спрашивает:
— Вы не знаете, где я могу найти дону Мунду?
Это был человеческий голос? Мурашки пробегают по спине португальца.
— Дону Мунду? — шепчет он и ждет, пока вопрос отзовется эхом в пустой душе, просто чтобы собраться с мыслями. Он хочет ответить, но слова застревают в горле. Так что только указывает на тропинку, ведущую на кладбище.
— Я приехала из города, — говорит пришелица. — У меня письмо для доны Мунды.
— Письмо? — вздрагивает португалец.
Женщина тонет в тумане. Сидониу Роза не видит уже и самого себя. И вспоминает, что ему говорили по приезде: «Во Мгле иногда стоит такой туман, что люди — уже не люди, а облака». Вот и сам он сейчас стал невесомой висящей в воздухе пушинкой. Какое-то легкое дуновение подталкивает его в сторону посланницы.
— Девушка, подождите! Я покажу вам дом семьи Одиноку…
Он идет вперед в одиночестве по туманной дороге. То ли из-за густого тумана, то ли из-за собственного внутреннего настроя доктор не узнает поселка. Он терзается сомнениями: «Может, я здесь в первый раз?» У дома Одиноку с ним кто-то здоровается:
— Хорошо, что вы пришли, доктор. Дом умирает.
Для этого его и пригласили; для этого он и прибыл. Не жильцы больны. Это дом заболел. Сидониу и в самом деле чувствует, что дом в лихорадке, что вот-вот начнет корчиться в конвульсиях.
С остальными домами поселка то же самое случилось еще раньше. Этот дом был последним, он один только и выжил. Вдруг среди далеких голосов слышится голос Деолинды:
— Спаси мой дом, спаси память обо мне…
Доктор гладит дверной косяк, будто щупает пульс. Но тут происходит нечто, чему он не в силах помешать: стены дома содрогаются, готовые рассыпаться. Они не рушатся, как при землетрясении. Они поднимаются в воздух, превратившись в пыль, и улетают в небеса. Оторванным крылом парит в воздухе крыша, будто слепая птица, кружащая над разоренным гнездом. С этой плавающей крыши стекает струйка воды, и Мунда купается под этим водопадиком. Она разделась, чтобы поплакать.
— Вот дом улетел, и мне теперь не надо идти плакать на улицу.
Всю жизнь она уходила из дома горевать. Плакать подальше от дома, где никто не услышит и не увидит — так было заведено в семье. Слезам нельзя падать на пол. Иначе камень обернется плотью и дом улетит так далеко, что сольется с туманом.
Врача шатает, ему хочется к чему-нибудь прислониться, а не к чему. Он падает, поскользнувшись, и чувствует, что лицо уткнулось в песок. Но не встает. У него нет сил. Он перестал осознавать собственное тело. Он ведь сам земля: зачем от себя отрываться?