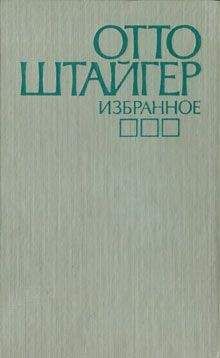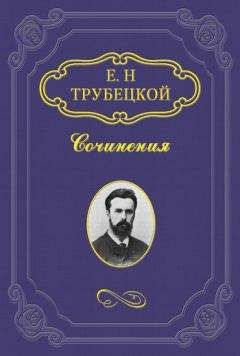Митчел Уилсон - Встреча на далеком меридиане
Все с тем же жадным любопытством, скрытым под маской невозмутимости, Ник оглядел остальных ожидающих. Некоторые из них были иностранцы, а другие — русские, которые их встречали. В одном углу англичанин, похожий на литератора, с помощью переводчика давал интервью двум русским журналисткам, а русский радиокорреспондент, ожидая, когда те кончат, преспокойно устанавливал перед ним переносный магнитофон. Ник, казалось, слышал и видел все и всех, кроме Гончарова, который уже начал говорить о физике. Тут к ним быстро подошел Киреев и спросил:
— Сколько у вас с собой денег?
— Не знаю, — рассеянно ответил Ник. — Около двухсот долларов. Несколько аккредитивов — еще сотни на две. Несколько английских фунтов, которые я забыл обменять, и несколько шведских крон…
— Ну, скажем, двести долларов, — быстро сказал Киреев. — Это только для таможни. — И он опять исчез.
— А теперь довольно шуток, — сказал Гончаров. — Давайте перейдем к серьезным делам.
— Хорошо, но прежде мне надо позвонить в наше посольство, — сказал Ник; последняя фраза Гончарова напомнила ему о пустячном поручении, которое он хотел выполнить, пока не забыл о нем. — Это был очень строгий приказ, и я обещал следовать ему неукоснительно.
Лицо Гончарова утратило всякое выражение.
— Разумеется, — сказал он. — Я сейчас все устрою. Вероятно, здесь есть телефон, которым вы можете воспользоваться.
Он отошел к лысому человеку, сидевшему за столом в дальнем конце комнаты. Ник увидел, как они быстро о чем-то заговорили, поглядывая в его сторону. Затем лысый кивнул, и они вышли через дверь, из которой почти немедленно появились трое одетых в одинаковые синие куртки китайцев в сопровождении четверых встречающих русских, затем индус с черной бородой и усами, в тюрбане и в костюме, сшитом лондонским портным, а за ним худощавая француженка с грустными главами, необыкновенно грациозная и чуть небрежно одетая. Ник узнал знаменитую французскую балерину. Она опустилась в одно из плюшевых кресел и лениво огляделась: взгляд ее скользнул по китайцам, потом задержался на англичанине, теперь очень серьезно и искренне говорившем что-то в микрофон, который корреспондент держал у его губ, словно кормя его с ложечки; а потом остановился на Нике. Не всякий мужчина решился бы окинуть женщину таким спокойно оценивающим и предельно откровенным взглядом.
Быстрыми шагами вошел Гончаров и поманил Ника за собой. Они оказались в маленьком кабинете, где лысый служащий, с которым говорил Гончаров, уже успел набрать номер телефона. Он передал трубку Нику, поглядев на него с нескрываемым любопытством.
— Вам сейчас ответят, — сказал Гончаров. Он кивнул лысому, и оба они вышли, прикрыв за собой дверь, прежде чем Ник успел сказать, что разговор не составляет никакой тайны и они ему не помешают.
Женский голос, несомненно принадлежащий американке, сказал «Алло!», и Ник попросил вызвать Мартина Филлипса из консульского отдела. Через несколько секунд мужской голос устало произнес:
— Филлипс у телефона.
— С вами говорит Никлас Реннет. Я только что из Стокгольма. Меня просила позвонить вам ваша сестра Грейс. Она взяла с меня клятву, что я сделаю это сразу же, как только приеду, не то она меня убьет.
Филлипс весело засмеялся.
— Узнаю Грейс! А она, случайно, не просила сообщить, что не сможет встретиться со мной в Вене?
— Именно. Она сказала, что будет ждать вас в Риме.
— Мне очень жаль, что мы причинили вам столько хлопот. Она, конечно, послала мне телеграмму, но почему-то она никак не может поверить, что телеграф здесь работает. Очень жаль, что мне не удастся повидаться с вами, ведь я, как вы знаете, сегодня уезжаю на полтора месяца в отпуск. Но раз уж вы позвонили, я, пожалуй, вас сразу же и зарегистрирую. Мы предпочитаем, чтобы американцы сообщали нам, где они остановились, если они собираются пробыть здесь больше одной — двух недель. Это только формальность. Но если у ник дома что-нибудь случается, их родным не приходит в голову запросить Интурист, и они начинают бомбардировать телеграммами нас. Месяц назад нам пришлось разыскивать одного фермера из Айдахо, приехавшего сюда с делегацией, — у него заболела жена.
— Я еще в аэропорту, — сказал Ник. Стоило ли объяснять, что для него эта формальность совершенно не нужна: в Соединенных Штатах не было ни одного человека, которому он мог бы неожиданно понадобиться. В любое другое время ему стало бы грустно от этой мысли — но не теперь, когда будущее, ожидавшее его тут же, за дверью, казалось, обещало ему так много. Он был не одинок, а свободен. — Я приехал на конференцию физиков.
— В таком случае мы всегда можем найти вас через Академию наук. Нам нужно только знать номер вашего паспорта и где вы остановились. Но, как я уже сказал, это — формальность, и вы можете не утруждать себя. Еще раз спасибо и примите мои извинения за выходку Грейс.
Ник повесил трубку и вышел к Гончарову и Кирееву. Последний сказал:
— Машина ждет.
Гончаров вопросительно посмотрел на Ника.
— А теперь мы можем поговорить?
— О космических лучах? — спросил Ник. Балерина встала и пошла к нему, улыбаясь и протягивая руку, но эту руку взял и поцеловал худощавый, элегантно одетый человек, который появился из-за спины Ника и оживленно сказал что-то по-французски, хотя и с заметным русским акцентом. В комнату энергичней походкой вошел пожилой советский генерал в белом кителе и синих брюках с красной полосой; он недовольно осмотрелся по сторонам, словно здание аэропорта сыграло с ним неумную шутку, и снова исчез за дверью, а Ник проводил его взглядом, жадно ловившим каждую черточку советской жизни. — О космических лучах? Лучше не надо, если можно, — попросил он, зная, что ничего не способен слушать, пока глаза его не насытятся. Улыбнувшись, он добавил: — Дайте мне сперва сориентироваться.
Оживление на лице Гончарова снова угасло, и оно стало непроницаемым. В зале запах карболки еще более усилился, и Ник торопливо прошел к двери, стремясь скорее выбраться на свежий воздух. Снаружи на ступеньках, теперь освещенных уже довольно ярким солнцем, в ленивых позах стояли носильщики, которых не смогли преобразить даже их форма и кепи с кожаным козырьком наоборот, им удалось придать своей форме непринужденность пижамы. Но Нику так и не пришлось глотнуть свежего воздуха — шоссе недавно заново асфальтировали, а кроме того, всюду пахло бензином. Их ждал длинный черный лимузин с распахнутыми дверцами, сиденья которого были покрыты чехлами в сине-белых цветочках. Чемоданы уложили в багажник, все сели, шофер включил передачу, и машина плавне покатила мимо стоянки, где сгрудилось двадцать такси с двумя полосками квадратиков под окнами, а их шоферы, сбившись в кучки, о чем-то весело болтали — точь-в-точь как в Питтсбурге и в Нью-Йорке, в Париже и в Риме.
За границей аэродрома потянулась поросшая молодыми деревцами равнина, сохранявшая все черты дикой природы. Вскоре перед ними открылось широкое шоссе, где одна изящная белая стрела с надписью «Аэропорт» указывала назад, а другая, под прямым углом к ней, — налево, на Москву.
— В Москву, в Москву! — сказал Ник, цитируя Чехова.
— Мы будем там примерно через полчаса, — ответил Гончаров. К нему уже вернулось хорошее настроение, и он принялся описывать новый фазотрон, но Ник только рассеянно отвечал: «Ах, вот как!» — а сам во все глаза смотрел из окошка на окружавшую его Россию: на широкое шоссе, на движущиеся с одинаковой скоростью грузовики и легковые автомобили — и задавал себе вопрос, почему шоссе в Советском Союзе производит на него такое впечатление, хотя он совсем не обратил внимания ни на Большое Западное шоссе, ведущее в Лондон, ни на подъезд к Стокгольму. Сейчас он находился на Луне, но только она почему-то совсем не отличалась от всего остального мира. Он открыл окно, но вместо свежего воздуха вдохнул запах русского бензина.
— Какое у вас было самое первое впечатление от Нью-Йорка? — прервал он Гончарова.
— Самое первое? — повторил Гончаров, сбитый с толку неожиданным вопросом.
— Да, самое-самое первое.
— Запахи, — не задумываясь, ответил Гончаров. — Ваш бензин пахнет не так, как наш; дезинфицирующие средства, которыми вы пользуетесь в ваших учреждениях, пахнут не так, как мы привыкли; это относится даже к вашим кушаньям. Я вышел из самолета, мечтая подышать свежим воздухом, но меня со всех сторон подстерегали новые запахи — не то чтобы плохие или хорошие, пояснил он дипломатично, — а просто непривычные, однако и этого оказалось довольно. Я очень долго не мог к ним приспособиться, ну а потом, разумеется, перестал их ощущать совсем — чувствовал только свежесть воздуха. С тех пор мне больше не удавалось понюхать Америку. Может быть, вам неприятно то, что я говорю?
— Ну что вы! — сказал Ник.
Они мчались по залитому солнцем шоссе. Небо казалось невысоким и прозрачным. И вдруг слева возник шпиль, венчавший квадратную белую башню. Это был Московский университет, но вокруг по-прежнему тянулись поля и перелески. Затем внезапно показались вспоротые пласты земли, над которыми, фыркая, трудились бульдозеры, а потом по обеим сторонам шоссе поднялся решетчатый лес обнаженных стальных ферм, подъемные краны ворочали над ними свои узкие головы, напоминавшие черепа доисторических птиц, и тросы свисали с их длинных клювов, как струйки стальной слюны. Несколько миль вдоль шоссе тянулись эти шести-, восьми- и десятиэтажные клетки, а затем внезапно скелеты зданий стали одеваться плотью кирпича.