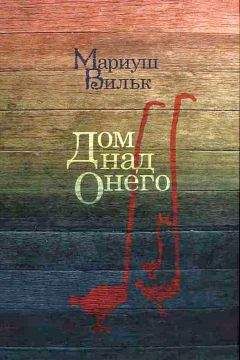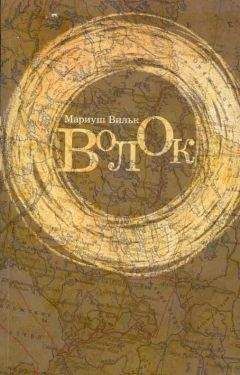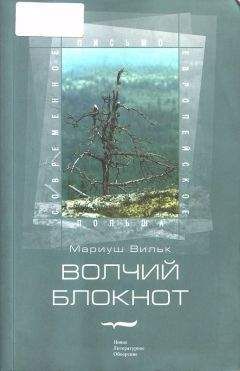Мариуш Вильк - Дом над Онего
Придется сказать несколько слов о судьбе последнего кижского священника, чтобы было понятно положение, в котором оказался нынешний батюшка.
Алексей Степанович Петухов происходил из благородной семьи поморских священников. Со своей женой, Александрой Стефановной (урожденной Поповой, дочерью священника), он познакомился в архангельской семинарии. В 1910 году был рукоположен и вместе с женой послан с пастырской миссией в Юшкозеро в Ухтинскую волость (в настоящее время — северная Карелия). Там их застала большевистская революция, и неожиданно для самих себя Петуховы оказались в положении врагов советской власти. Во время Гражданской войны Ухтинская волость несколько раз переходила из рук в руки, и лишь на рубеже 1921–1922 годов из нее были окончательно вытеснены так называемые белые финны. Уходя, они взяли с собой заложников, в частности, отца Алексея. Согласно советским донесениям, священник Петухов в финском городе Каяни «выполнял функции пастора карельских отступников». Попадья с пятью детьми и без средств к существованию осталась в красной России. Супруги прожили в разлуке два года.
После долгих сомнений — финны обещали паспорта для всей семьи и материальную помощь, но жена не соглашалась, а самого священника мучила ностальгия — отец Алексей вернулся в советскую Россию. Церковь послала его служить в Панозеро. Петуховы начали все сначала: разбили огород, купили корову, чтобы всегда было молоко для детей. Родилась Галя — их последний ребенок. Годы с 1925-го по 1932-й, проведенные в Панозере, были самыми спокойными в их жизни, хотя Петуховы считались «лишенцами» (семьи священников были лишены конституционных прав) и преследовать их можно было совершенно безнаказанно. Особенно доставалось мальчикам. Двенадцатилетний Гена, например, должен был выполнять взрослую норму по вырубке леса, но при этом, будучи сыном попа, не имел права есть из общего котла, а зимой его не пускали ночевать в землянку. О прозвищах и тычках я не говорю.
Однако настоящая беда пришла из-за коровы. Корова Петуховых как раз должна была отелиться, когда отца Алексея перевели в деревню Суна. Советские законы запрещали резать стельную корову, а как с ней переезжать? Хорошо, нашелся сосед, который за поповскую стельную Зорьку отдал свою Красавку. Петуховы Красавку зарезали, мясо на дорогу засолили и уехали. Сосед же, когда НКВД прижало его к стенке, не признался в совершенном обмене. За нелегальный убой скота отца Алексея посадили на полтора года. Он попал в Бесовецкий сельскохозяйственный лагерь под Петрозаводском. Выйдя на свободу, осел с семьей в Заонежье. В Боярщине, близ Кижей. Там разыгрался последний акт драмы.
Заонежье в середине тридцатых годов прошлого века было в Карелии последним прибежищем православия (согласно секретным данным Союза воинствующих безбожников, в 1936 году на территории Заонежья действовало пятьдесят восемь часовен, в которых не были сняты колокола, и жители приглашали священников служить в дни местных праздников), кижский же приход был главным оплотом веры. Ничего удивительного, что смелый референдум на Кижах — в результате которого более тысячи человек высказалось за сохранение церквей и лишь восемьдесят голосовало за их ликвидацию — назвали «настоящим бунтом против советской власти». Происходило все это, не забывайте, в период сталинских чисток, когда и за меньшее могли расстрелять без суда и следствия. В этот котел и угодил, едва освободившись из лагеря, священник Петухов.
Петуховы привезли в Боярщину свой бедный скарб: ободранный сундук, деревянную кровать, самовар и старую швейную машинку, единственную кормилицу.
— Голь перекатная, — говорили деревенские.
Но отец Алексей беспокоился не об имуществе.
Ему было пятьдесят восемь, он чувствовал, что конец близок. И вот на закате жизни Бог посылает ему непростую задачу: спасти кижские храмы от безбожников!
А храмы Кижей для советской власти были словно кость в горле. Начали с церкви Преображения Господня.
— Зачем приходу две церкви? — возмущались самые рьяные. — Давайте Покровскую оставим мракобесам, а из Преображенки сделаем музей.
Дело в том, то на Кижах испокон веку молились в двух церквях: от Пасхи до Покрова — в летней, Преображенской, а зимой — в отапливаемой, Покровской. И именно эту летнюю, двадцатидвухкупольную гордость всего Заонежья (да что там, во всей России второй такой не сыскать!) власти решили закрыть. Осенью 1936 года представитель сельсовета силой отобрал у церковного старосты ключ от храма. Всю зиму священник Петухов писал письма во всевозможные инстанции и собирал подписи под петициями, наконец обратился на самый верх, в Москву, откуда в апреле 1937 года пришло окончательное решение: немедленно превратить храм в музей!
Отец Алексей предвидел такое развитие событий и заранее отвел младшую Галку в сельсовет, чтобы та под его диктовку письменно отреклась от родного отца. Старшие дети давно выросли и разъехались кто куда. Попадья поддерживала мужа.
Можно было начинать последнее сражение. Вопреки решению властей пасхальная служба 1937 года прошла в церкви Преображения. И все лето отец Алексей там служил. В день Преображения Господня (19 августа) он произнес последнюю проповедь:
«Да будет вам всем известно, что корабль Христов, Церковь православная теперь переносит страшную бурю и находится в страшной опасности. За тысячу лет существования православной Церкви на Руси никогда не была она в столь тяжелом положении, как сейчас. Враги христианства не дремлют, они напрягают все силы, чтобы утопить священный корабль Христов и уничтожить веру православную…»
Петухова арестовали в октябре, как раз на Покров. Он выдержал два допроса, вздорные обвинения отрицал. На третьем «признался», что принадлежал к контрреволюционной организации и шпионил в пользу «белых финнов». Отца Алексея расстреляли в два часа ночи 20 ноября 1937 года.
Оба кижских храма передали музею. С тех пор службу на Кижах не служили до 1991 года, когда в Заонежье приехал из Парижа отец Николай.
26 октября
Каким же образом всего за пару десятилетий православие в Заонежье полностью вымерло? Каким образом все дети отца Алексея выросли безбожниками? Можно ли объяснить это исключительно страхом? А может, «естественная религиозность» прежних россиян (и человека вообще!), о которой в свое время столько писал философ Соловьев, на поверку оказалась, как говорят новые русские, «показухой»?
Правда, отец Николай все еще питает иллюзии, что, усердно молясь, сумеет протоптать тропу к храму и кижские церкви снова заполнятся толпами верующих, но подозреваю, что это будут скорее толпы туристов — даже если женщины покроют головы платками, мужчины сдернут шапки, и все дружно станут зажигать свечи, поминутно осенять себя крестным знамением, лобзать иконы и кланяться до земли.
И по сей день ни один из кижских храмов не отдан общине верующих, потому как и общины верующих как таковой на Кижах нет. Зимой отец Николай живет в Петрозаводске (там и служит), а летом небольшая группа его прихожан теряется среди толп туристов, ежедневно оккупирующих остров, — пора бы музейной администрации наконец запретить вести экскурсии в Покровской церкви во время службы. О Преображенке и вовсе говорить не приходится — пока лишь гадают, как бы ее отреставрировать, чтобы во время ремонта не рассыпалась окончательно.
Постороннего человека, случайно оказавшегося на вчерашней службе, толпа в церкви могла бы обмануть (приободрить): откуда ему знать, что отец Николай оплатил дополнительные рейсы «ракеты» из Петрозаводска и Великой Губы, чтобы бесплатно привезти желающих на праздник Покрова. Желающих — естественно — оказалось больше, чем мест в «ракете», тем более что пошли слухи о бесплатном обеде после службы… А еще год назад — без «ракеты» и обеда на халяву — я сам носил за отцом Николаем чашу со святой водой. Больше было некому.
Петрозаводск, 2 ноября
В Музее изобразительных искусств — выставка в честь семидесятилетия Мюда Мечева[91]. В трех небольших залах на первом этаже Мечев показал сто новых работ, в том числе избранное из легендарного уже цикла медитаций кистью и тушью на библейские темы, которым он посвятил последние пятнадцать лет жизни, пара карельских пейзажей и несколько набросков с натуры (меня восхитило «Северное сияние сквозь падающий снег», небольшая гуашь 1997 года — вроде хайку цветной тушью), множество художественных впечатлений от заграничных вояжей (в частности, виды Рима, Ватикана, Венеции, Флоренции, Парижа и Лондона), а также несколько московских переулков и карандашный портрет Ольги. Учитывая, что Меч исследует каждую тему медленно, скорее созерцает, чем творит, — не так уж мало.
«Калевале» Мечев посвятил шестнадцать лет жизни: восемь — писал гуашью и тушью и еще восемь делал гравюры. В 1948 году выиграл в Москве Всесоюзный конкурс на иллюстрации к юбилейному изданию по случаю столетия «Калевалы». С этого все и началось. Сперва он, в отличие от других художников, видел эпос реалистически. Потому и поехал в Карелию: от соцреалистических штампов на Север, якобы за материалами для «Калевалы», а на самом деле просто подальше от столицы (Мюд хорошо помнил историю отца, художника Константина Пантелеева-Киреева[92], арестованного в 1937 году).